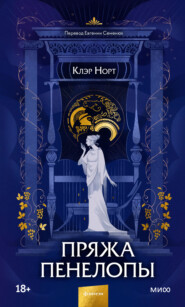По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дом Одиссея
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Женщина резким кивком выражает согласие, и стражи бросаются прочь.
Возвращение не занимает у них много времени. Угроза, исходящая от неизвестной, возможно, божественной лучницы или лучниц, поджидающих в темноте, заставляет поторапливаться даже – а скорее всего, особенно – самых опытных ветеранов. К моменту их возвращения на окраину Фенеры, туда, где свет факелов теряется в темноте, освещая лишь начало узкой грязной тропки, женщина все еще там, стоит подобно статуе, облаченной в бронзу и шкуры животных. Она хотя бы моргала? Ну конечно, она моргала, ходила, разминалась, обменялась парой слов с одной из вымазанных грязью дозорных, прячущихся на краю деревни; а затем, услышав приближающихся солдат, снова заняла свою позицию, чтобы создать впечатление, будто ни громы с молниями, ни даже извержение вулкана не отвлекут ее от исполнения своего долга. Позвольте заверить, ведь я-то видела героев Трои вблизи, что иногда даже Парису приходилось отлучаться в кусты по-большому, а милашка Гектор с его носом-пуговкой храпел, как медведь, и пердел, как бык. Вот вам и величественность застывших в мраморе героев.
Первые солдаты привели с собой еще двух, и эти уже предусмотрительно пришли безоружными. Один из них – мужчина, одетый так же, как и те, кто его привел, с нагрудником и щитками, в подпорченном морской водой плаще, с просоленными растрепанными волосами, обрамляющими усталое лицо. Его зовут Пилад, и его любовь того трагического сорта, когда боишься ее выразить из страха, что, будучи отвергнут, лишишься последнего смысла в жизни. А вторая – женщина с внешностью ворона и душой, облаченной в черные перья, с длинными волосами, разметавшимися по плечам от морского ветра, с лицом, осунувшимся от голода, и руками, сжатыми в кулаки по бокам. Именно она подходит к вооруженной ножами женщине и без страха вытягивает вперед правую руку, разжимая пальцы, чтобы показать золотое кольцо.
– Я – Электра, – провозглашает она, – дочь Агамемнона. Это кольцо принадлежало моей матери, Клитемнестре. Отнеси его твоей царице.
Женщина с ножами подозрительно приглядывается к золотому украшению, словно то в любой момент может обернуться ядовитой змеей.
– Я – Приена и служу только Артемиде, – отвечает она и, возможно, собирается добавить что-то еще, но ее прерывает язвительный смешок Электры.
– Я – Электра, – повторяет она, – дочь Агамемнона. Мой брат – Орест, царь царей, величайший из греков, правитель Микен. На этом самом острове он убил нашу мать в отмщение за ее преступления, а твоя царица, Пенелопа, стояла рядом, предав собственную родную кровь. Ты можешь рассказать еще что-нибудь о богах и богинях, если есть желание, но только побыстрее, а когда закончишь, возьми его и отнеси как можно более скрытно и быстро Пенелопе.
Приена оценивающе смотрит и на кольцо, которое лично ей кажется убогой поделкой по сравнению с летящими конями, которых на ее родине могли создать даже из крохотного кусочка золота, и на женщину, держащую его. Она испытывает презрение к Электре и жгучее желание прикончить всех ее спутников, но, увы, увы, позади нее – женщины, за которых она чувствует ответственность и жизни которых по меньшей мере осложнятся, если по всей Итаке вспыхнет пламя карающей войны. В морях нынче полно озлобленных мужчин, ветеранов Трои, не получивших своей доли добычи, и их сыновей, до которых постепенно доходит, что им никогда не достичь славы их отцов.
Понимая это, она берет кольцо, прячет поближе к груди, смотрит прямо на Электру, чтобы заметить, вызовет ли этот интимный жест реакцию, позволяющую обнажить мечи и стрелы, затем, когда таковой не следует, отрывисто кивает.
– Не уходи с берега, – рычит она, – иначе умрешь.
– Никогда не боялась реки забвения в царстве Аида, – ответ Электры так же мягок, как горный поток, и Приена, видевшая достаточно смертей, чувствует его правдивость, но, имея достаточно мудрости, не гадает о причинах.
Она без тени страха поворачивается спиной к микенским солдатам и их царевне и исчезает во тьме, замершей в настороженном ожидании.
Глава 3
Во дворце Одиссея царица лежит, погруженная в сон.
Вот что, по мнению поэтов, должна она видеть во сне.
Своего мужа, таким, каким она видела его почти двадцать лет назад, разве что осененного лучами славы, отчего грудь становится шире, волосы отливают золотом, руки лучника взбухают мускулами, и лукавая улыбка изгибает губы. Когда он уплыл, они были еще молоды, причем она – моложе его, и ночами, прежде чем микенцы явились забрать Одиссея в Трою, она частенько видела, как он держит их новорожденного сына и изливает свои чаяния в бессмысленное личико пухлого младенца: «У-у-ути-пути, да, утю-тю, кто у нас маленький герой, да, ты – маленький герой, ути-пу-у-ути!»
А если она и не видит во сне Одиссея, хотя, безусловно, должна, тогда, наверное, ей снится Телемах, тот самый младенец, сейчас уже почти взрослый. Он уплыл на поиски отца или хотя бы тела отца – у обоих вариантов есть свои за и против. Он чуть выше, чем был его отец – должно быть, сказывается кровь деда-спартанца, – но и тоньше, выделяется бледностью зимнего моря. А это наверняка влияние его бабки, наяды, родившей Пенелопу и всучившей ее папаше с радостным криком: «Она – твоя, пока-а-а!»
Телемах не сказал Пенелопе, что покидает Итаку. И вряд ли поверил бы, что она пролила хоть слезинку, глядя ему вслед, а ведь она рыдала до покрасневших глаз и распухшего носа, вот так некрасиво, что понятно только матерям.
Именно эти два сновидения наиболее подходят царице. Есть, конечно, и третий сон, о котором самые скандальные поэты заговорят, если вдруг что-то пойдет абсолютно чудовищно неправильным путем. Поскольку в запутанных коридорах дворца, в маленьких комнатах, пристроенных на самом краю утеса, в лачугах, обставленных как жилища, достойные гостей, и во всех виллах, постоялых дворах и хижинах, разбросанных по городу внизу, в пьяном забытьи валяются женихи, юнцы, собравшиеся со всей Греции, чтобы завоевать руку – и корону – госпожи Итаки. Неужели она видит во сне этих напыщенных индюков? Благочестивый поэт воскликнет: «Нет, нет! Не жена Одиссея, только не она! Лишь целомудренные видения о том, как она промокает нахмуренный лоб уставшего мужа, и ничего более». Поэт же более дешевого сорта: «Вот он, склонится поближе и шепнет: “Так долго ложиться в пустую, холодную постель…”»
Пенелопа знает – да что там, даже снам Пенелопы понятно, – что если ей не удастся сохранить образ безукоризненного целомудрия, поэты наверняка прославят ее как гулящую девку.
Так что же ей снится на самом деле, этой уставшей женщине, в ее одинокой постели?
Я ныряю в путаницу ее мыслей, подхватываю кончик нити – и вот оно, расплывающееся сновидение: ей снится…
Стрижка овец.
Во сне овца сидит копытами вверх, гузном вниз, зажатая между коленей Пенелопы, а та состригает ее густую шерстяную шубу, открывая прячущееся под ней по-летнему тоненькое создание. Ее служанки собирают шерсть и пихают в корзины. И едва она закончит с первым животным, озадаченно глядящим на нее огромными желтыми глазами, как приходит очередь следующего, и еще одного, и еще, и…
Возможно, это своего рода метафора?
Вовсе нет. Как богиня страсти заверяю, что в мыслях ее нет никакой пикантности или скрытого подтекста, не мелькают любвеобильные пастухи и не заметно волнующего оттенка подавленной страсти. Пенелопе снятся овцы, потому что, как ни крути, ей придется править царством, и раз уж для нее закрыт традиционный путь грабежа, мародерства и воровства – самого достойного способа ведения дел, – она вынуждена опуститься до таких низменных занятий, как сельское хозяйство, ремесло и торговля. Поэтому на каждое мгновение, проведенное в тоскливом созерцании вод, отделивших ее от мужа и сына, приходятся двадцать других, посвященных проблемам со сточными водами, навозом и плодородностью земли, тридцать пять – вопросам разведения коз, сорок – олову и янтарю, проплывающим через ее порты, двадцать три – оливковым рощам, двадцать два – домашнему хозяйству, пять – пчелиным ульям, пятнадцать – всему, что связано с ткачеством, шитьем и плетением, которыми заняты женщины ее дома, двенадцать – поставкам древесины, и почти пятьдесят – рыболовству. Вонь от рыбы, висящая над островом, так сильна, что заглушает даже мой божественный аромат.
Увы, какой бы сон ни посетил Пенелопу этой ночью, он безжалостно и бесповоротно прерван появлением Приены, влезшей через окно спальни.
О сколько чудесных свиданий начиналось именно так! Успокойся, мое дорогое, трепещущее сердечко; но все же какое разочарование: Приена заявляет о своем присутствии, едва первые лучи рассвета касаются серых скал Итаки, самым обыденным:
– Эй! Просыпайся!
Пенелопа пробуждается, и хотя ее мысли все еще в водовороте из запаха шерсти и блеянья остриженных овец, но рука сразу же смыкается на рукояти ножа, который всегда прячется в складках шерстяных покрывал, и вытаскивает его из укрытия, чтобы нанести удар по тени женщины, так грубо вырвавшей ее из царства снов.
Приена разглядывает ее оружие без страха или удивления, находясь совершенно вне досягаемости ножа царицы, затем, дав Пенелопе мгновение, чтобы более-менее прийти в себя, выпаливает:
– В бухте контрабандистов у Фенеры спрятан микенский корабль. Двадцать девять вооруженных мужчин, десять женщин. Девчонка, заявившая, что она – Электра, дочь Агамемнона, дала мне это кольцо. Может, нам всех их убить?
Пенелопа сейчас в таком переломном возрасте, когда женщина либо достигает того состояния духа, что каждое существо заставляет сиять внутренней красотой, радуя сердце и взгляд; либо плачет и тоскует по своей юности, молодится, накладывая воск и свинец на лицо, втирая хну в волосы в надежде выиграть немного времени, чтобы научиться любить то меняющееся лицо, что смотрит на нее из зеркала.
Пенелопа не привыкла разглядывать свое лицо. Ведь она – родственница той самой Елены, достаточно дальняя, чтобы не обладать красотой этой царицы, но достаточно близкая, чтобы при их сравнении ее невзрачность удивляла. Будучи юной новобрачной, она убирала свои темные локоны со лба и тревожилась, что мужу не понравится отсутствие румянца на ее бледных щеках, а от солнца ее плечи могут приобрести непривлекательную красноту. Но двадцать лет погонь за скотом по обрывистым утесам ее крошечного царства, походов на верфи и латания парусов, двадцать лет среди соли и навоза избавили ее от влияния этой стороны натуры, причем полностью, так, что даже – а может быть, особенно – прибытие женихов не смогло ее воскресить. И вот, совершенно ошарашенная, Пенелопа сидит на кровати и машет ножом в пустоту; с гнездом на голове, с горящими глазами на сером от теней лице, чей голубоватый оттенок сейчас скрыт под плотным летним загаром, с ввалившимися, обветренными на морском бризе щеками, что она выдает за признаки женской печали, когда удосуживается вспомнить об этом.
Мгновение мозг пытается ухватить ускользающую реальность, а потом у нее вырывается:
– Приена?
Приена, командующая войском, которого не должно быть и в помине, стоит у окна, скрестив руки на груди. А ведь ей известно, где находится дверь и как пользоваться лестницей, – Пенелопа в этом уверена. И все же эта воительница с Востока с самого начала воспылала неприязнью к передвижению по тайным ходам дворца в сопровождении служанок Пенелопы, а потому предпочитает более прямые пути к своей порой работодательнице и вроде как царице.
– Кольцо, – провозглашает она, роняя толстый золотой обод в руку растерянной Пенелопе и полностью игнорируя лезвие, все еще неуверенно мелькающее неподалеку от лица.
Пенелопа моргает и медленно опускает нож, словно вовсе забыла о том, что держала его, смотрит на кольцо, подняв его повыше и щурясь в предрассветной мгле, и, не сумев ничего разглядеть, поднимается – ночная рубашка довольно интригующе сползает с ее покатых плеч, – подходит к окну, снова поднимает кольцо и, изучив его, резко, судорожно втягивает воздух.
Это самое сильное проявление чувств за довольно продолжительное время, отчего даже Приена вздрагивает, подвигаясь ближе.
– Ну? – спрашивает она. – Это война?
– Ты уверена, что это Электра? – уточняет в ответ Пенелопа. – Маленькая, злобная, считающая пепел модным аксессуаром?
– Ее солдаты – микенцы. – Приена убила достаточно микенцев; она знает, о чем говорит. – И я не вижу причин кому-то добровольно называться дочерью проклятого тирана.
– Пожалуйста, скажи мне сразу, если ты успела кого-то из них убить. – Вздох. – Будет крайне неловко, если об этом станет известно позже.
В голосе ее точно дозированная капля осуждения; она вовсе не собирается просить командующую своей островной армией не убивать вооруженных мужчин, тайком высаживающихся в потайных бухточках, но будет крайне разочарована, если это сделать без должной скрытности.
– Я сдержалась, – бурчит Приена. – Хотя, высаживаясь в бухте контрабандистов темной ночью, стоит быть готовым к возможным несчастным случаям. Ты узнаешь кольцо?
– Буди Эос и Автоною, – отвечает Пенелопа, сжимая кольцо, все еще хранящее тепло Приены, в кулаке. – Скажи им, чтобы готовили лошадей.
Глава 4
Был как-то свадебный пир.
Я испытываю смешанные чувства на свадьбах. С одной стороны, я рыдаю всю церемонию, и пусть мои слезы бриллиантами блестят в уголках прекрасных глаз, однако гостье неприлично отвлекать внимание от более важных переживаний жениха, невесты и, само собой, их новоявленных родительниц. Что я могу сказать? Я очень чувствительная натура.
Возвращение не занимает у них много времени. Угроза, исходящая от неизвестной, возможно, божественной лучницы или лучниц, поджидающих в темноте, заставляет поторапливаться даже – а скорее всего, особенно – самых опытных ветеранов. К моменту их возвращения на окраину Фенеры, туда, где свет факелов теряется в темноте, освещая лишь начало узкой грязной тропки, женщина все еще там, стоит подобно статуе, облаченной в бронзу и шкуры животных. Она хотя бы моргала? Ну конечно, она моргала, ходила, разминалась, обменялась парой слов с одной из вымазанных грязью дозорных, прячущихся на краю деревни; а затем, услышав приближающихся солдат, снова заняла свою позицию, чтобы создать впечатление, будто ни громы с молниями, ни даже извержение вулкана не отвлекут ее от исполнения своего долга. Позвольте заверить, ведь я-то видела героев Трои вблизи, что иногда даже Парису приходилось отлучаться в кусты по-большому, а милашка Гектор с его носом-пуговкой храпел, как медведь, и пердел, как бык. Вот вам и величественность застывших в мраморе героев.
Первые солдаты привели с собой еще двух, и эти уже предусмотрительно пришли безоружными. Один из них – мужчина, одетый так же, как и те, кто его привел, с нагрудником и щитками, в подпорченном морской водой плаще, с просоленными растрепанными волосами, обрамляющими усталое лицо. Его зовут Пилад, и его любовь того трагического сорта, когда боишься ее выразить из страха, что, будучи отвергнут, лишишься последнего смысла в жизни. А вторая – женщина с внешностью ворона и душой, облаченной в черные перья, с длинными волосами, разметавшимися по плечам от морского ветра, с лицом, осунувшимся от голода, и руками, сжатыми в кулаки по бокам. Именно она подходит к вооруженной ножами женщине и без страха вытягивает вперед правую руку, разжимая пальцы, чтобы показать золотое кольцо.
– Я – Электра, – провозглашает она, – дочь Агамемнона. Это кольцо принадлежало моей матери, Клитемнестре. Отнеси его твоей царице.
Женщина с ножами подозрительно приглядывается к золотому украшению, словно то в любой момент может обернуться ядовитой змеей.
– Я – Приена и служу только Артемиде, – отвечает она и, возможно, собирается добавить что-то еще, но ее прерывает язвительный смешок Электры.
– Я – Электра, – повторяет она, – дочь Агамемнона. Мой брат – Орест, царь царей, величайший из греков, правитель Микен. На этом самом острове он убил нашу мать в отмщение за ее преступления, а твоя царица, Пенелопа, стояла рядом, предав собственную родную кровь. Ты можешь рассказать еще что-нибудь о богах и богинях, если есть желание, но только побыстрее, а когда закончишь, возьми его и отнеси как можно более скрытно и быстро Пенелопе.
Приена оценивающе смотрит и на кольцо, которое лично ей кажется убогой поделкой по сравнению с летящими конями, которых на ее родине могли создать даже из крохотного кусочка золота, и на женщину, держащую его. Она испытывает презрение к Электре и жгучее желание прикончить всех ее спутников, но, увы, увы, позади нее – женщины, за которых она чувствует ответственность и жизни которых по меньшей мере осложнятся, если по всей Итаке вспыхнет пламя карающей войны. В морях нынче полно озлобленных мужчин, ветеранов Трои, не получивших своей доли добычи, и их сыновей, до которых постепенно доходит, что им никогда не достичь славы их отцов.
Понимая это, она берет кольцо, прячет поближе к груди, смотрит прямо на Электру, чтобы заметить, вызовет ли этот интимный жест реакцию, позволяющую обнажить мечи и стрелы, затем, когда таковой не следует, отрывисто кивает.
– Не уходи с берега, – рычит она, – иначе умрешь.
– Никогда не боялась реки забвения в царстве Аида, – ответ Электры так же мягок, как горный поток, и Приена, видевшая достаточно смертей, чувствует его правдивость, но, имея достаточно мудрости, не гадает о причинах.
Она без тени страха поворачивается спиной к микенским солдатам и их царевне и исчезает во тьме, замершей в настороженном ожидании.
Глава 3
Во дворце Одиссея царица лежит, погруженная в сон.
Вот что, по мнению поэтов, должна она видеть во сне.
Своего мужа, таким, каким она видела его почти двадцать лет назад, разве что осененного лучами славы, отчего грудь становится шире, волосы отливают золотом, руки лучника взбухают мускулами, и лукавая улыбка изгибает губы. Когда он уплыл, они были еще молоды, причем она – моложе его, и ночами, прежде чем микенцы явились забрать Одиссея в Трою, она частенько видела, как он держит их новорожденного сына и изливает свои чаяния в бессмысленное личико пухлого младенца: «У-у-ути-пути, да, утю-тю, кто у нас маленький герой, да, ты – маленький герой, ути-пу-у-ути!»
А если она и не видит во сне Одиссея, хотя, безусловно, должна, тогда, наверное, ей снится Телемах, тот самый младенец, сейчас уже почти взрослый. Он уплыл на поиски отца или хотя бы тела отца – у обоих вариантов есть свои за и против. Он чуть выше, чем был его отец – должно быть, сказывается кровь деда-спартанца, – но и тоньше, выделяется бледностью зимнего моря. А это наверняка влияние его бабки, наяды, родившей Пенелопу и всучившей ее папаше с радостным криком: «Она – твоя, пока-а-а!»
Телемах не сказал Пенелопе, что покидает Итаку. И вряд ли поверил бы, что она пролила хоть слезинку, глядя ему вслед, а ведь она рыдала до покрасневших глаз и распухшего носа, вот так некрасиво, что понятно только матерям.
Именно эти два сновидения наиболее подходят царице. Есть, конечно, и третий сон, о котором самые скандальные поэты заговорят, если вдруг что-то пойдет абсолютно чудовищно неправильным путем. Поскольку в запутанных коридорах дворца, в маленьких комнатах, пристроенных на самом краю утеса, в лачугах, обставленных как жилища, достойные гостей, и во всех виллах, постоялых дворах и хижинах, разбросанных по городу внизу, в пьяном забытьи валяются женихи, юнцы, собравшиеся со всей Греции, чтобы завоевать руку – и корону – госпожи Итаки. Неужели она видит во сне этих напыщенных индюков? Благочестивый поэт воскликнет: «Нет, нет! Не жена Одиссея, только не она! Лишь целомудренные видения о том, как она промокает нахмуренный лоб уставшего мужа, и ничего более». Поэт же более дешевого сорта: «Вот он, склонится поближе и шепнет: “Так долго ложиться в пустую, холодную постель…”»
Пенелопа знает – да что там, даже снам Пенелопы понятно, – что если ей не удастся сохранить образ безукоризненного целомудрия, поэты наверняка прославят ее как гулящую девку.
Так что же ей снится на самом деле, этой уставшей женщине, в ее одинокой постели?
Я ныряю в путаницу ее мыслей, подхватываю кончик нити – и вот оно, расплывающееся сновидение: ей снится…
Стрижка овец.
Во сне овца сидит копытами вверх, гузном вниз, зажатая между коленей Пенелопы, а та состригает ее густую шерстяную шубу, открывая прячущееся под ней по-летнему тоненькое создание. Ее служанки собирают шерсть и пихают в корзины. И едва она закончит с первым животным, озадаченно глядящим на нее огромными желтыми глазами, как приходит очередь следующего, и еще одного, и еще, и…
Возможно, это своего рода метафора?
Вовсе нет. Как богиня страсти заверяю, что в мыслях ее нет никакой пикантности или скрытого подтекста, не мелькают любвеобильные пастухи и не заметно волнующего оттенка подавленной страсти. Пенелопе снятся овцы, потому что, как ни крути, ей придется править царством, и раз уж для нее закрыт традиционный путь грабежа, мародерства и воровства – самого достойного способа ведения дел, – она вынуждена опуститься до таких низменных занятий, как сельское хозяйство, ремесло и торговля. Поэтому на каждое мгновение, проведенное в тоскливом созерцании вод, отделивших ее от мужа и сына, приходятся двадцать других, посвященных проблемам со сточными водами, навозом и плодородностью земли, тридцать пять – вопросам разведения коз, сорок – олову и янтарю, проплывающим через ее порты, двадцать три – оливковым рощам, двадцать два – домашнему хозяйству, пять – пчелиным ульям, пятнадцать – всему, что связано с ткачеством, шитьем и плетением, которыми заняты женщины ее дома, двенадцать – поставкам древесины, и почти пятьдесят – рыболовству. Вонь от рыбы, висящая над островом, так сильна, что заглушает даже мой божественный аромат.
Увы, какой бы сон ни посетил Пенелопу этой ночью, он безжалостно и бесповоротно прерван появлением Приены, влезшей через окно спальни.
О сколько чудесных свиданий начиналось именно так! Успокойся, мое дорогое, трепещущее сердечко; но все же какое разочарование: Приена заявляет о своем присутствии, едва первые лучи рассвета касаются серых скал Итаки, самым обыденным:
– Эй! Просыпайся!
Пенелопа пробуждается, и хотя ее мысли все еще в водовороте из запаха шерсти и блеянья остриженных овец, но рука сразу же смыкается на рукояти ножа, который всегда прячется в складках шерстяных покрывал, и вытаскивает его из укрытия, чтобы нанести удар по тени женщины, так грубо вырвавшей ее из царства снов.
Приена разглядывает ее оружие без страха или удивления, находясь совершенно вне досягаемости ножа царицы, затем, дав Пенелопе мгновение, чтобы более-менее прийти в себя, выпаливает:
– В бухте контрабандистов у Фенеры спрятан микенский корабль. Двадцать девять вооруженных мужчин, десять женщин. Девчонка, заявившая, что она – Электра, дочь Агамемнона, дала мне это кольцо. Может, нам всех их убить?
Пенелопа сейчас в таком переломном возрасте, когда женщина либо достигает того состояния духа, что каждое существо заставляет сиять внутренней красотой, радуя сердце и взгляд; либо плачет и тоскует по своей юности, молодится, накладывая воск и свинец на лицо, втирая хну в волосы в надежде выиграть немного времени, чтобы научиться любить то меняющееся лицо, что смотрит на нее из зеркала.
Пенелопа не привыкла разглядывать свое лицо. Ведь она – родственница той самой Елены, достаточно дальняя, чтобы не обладать красотой этой царицы, но достаточно близкая, чтобы при их сравнении ее невзрачность удивляла. Будучи юной новобрачной, она убирала свои темные локоны со лба и тревожилась, что мужу не понравится отсутствие румянца на ее бледных щеках, а от солнца ее плечи могут приобрести непривлекательную красноту. Но двадцать лет погонь за скотом по обрывистым утесам ее крошечного царства, походов на верфи и латания парусов, двадцать лет среди соли и навоза избавили ее от влияния этой стороны натуры, причем полностью, так, что даже – а может быть, особенно – прибытие женихов не смогло ее воскресить. И вот, совершенно ошарашенная, Пенелопа сидит на кровати и машет ножом в пустоту; с гнездом на голове, с горящими глазами на сером от теней лице, чей голубоватый оттенок сейчас скрыт под плотным летним загаром, с ввалившимися, обветренными на морском бризе щеками, что она выдает за признаки женской печали, когда удосуживается вспомнить об этом.
Мгновение мозг пытается ухватить ускользающую реальность, а потом у нее вырывается:
– Приена?
Приена, командующая войском, которого не должно быть и в помине, стоит у окна, скрестив руки на груди. А ведь ей известно, где находится дверь и как пользоваться лестницей, – Пенелопа в этом уверена. И все же эта воительница с Востока с самого начала воспылала неприязнью к передвижению по тайным ходам дворца в сопровождении служанок Пенелопы, а потому предпочитает более прямые пути к своей порой работодательнице и вроде как царице.
– Кольцо, – провозглашает она, роняя толстый золотой обод в руку растерянной Пенелопе и полностью игнорируя лезвие, все еще неуверенно мелькающее неподалеку от лица.
Пенелопа моргает и медленно опускает нож, словно вовсе забыла о том, что держала его, смотрит на кольцо, подняв его повыше и щурясь в предрассветной мгле, и, не сумев ничего разглядеть, поднимается – ночная рубашка довольно интригующе сползает с ее покатых плеч, – подходит к окну, снова поднимает кольцо и, изучив его, резко, судорожно втягивает воздух.
Это самое сильное проявление чувств за довольно продолжительное время, отчего даже Приена вздрагивает, подвигаясь ближе.
– Ну? – спрашивает она. – Это война?
– Ты уверена, что это Электра? – уточняет в ответ Пенелопа. – Маленькая, злобная, считающая пепел модным аксессуаром?
– Ее солдаты – микенцы. – Приена убила достаточно микенцев; она знает, о чем говорит. – И я не вижу причин кому-то добровольно называться дочерью проклятого тирана.
– Пожалуйста, скажи мне сразу, если ты успела кого-то из них убить. – Вздох. – Будет крайне неловко, если об этом станет известно позже.
В голосе ее точно дозированная капля осуждения; она вовсе не собирается просить командующую своей островной армией не убивать вооруженных мужчин, тайком высаживающихся в потайных бухточках, но будет крайне разочарована, если это сделать без должной скрытности.
– Я сдержалась, – бурчит Приена. – Хотя, высаживаясь в бухте контрабандистов темной ночью, стоит быть готовым к возможным несчастным случаям. Ты узнаешь кольцо?
– Буди Эос и Автоною, – отвечает Пенелопа, сжимая кольцо, все еще хранящее тепло Приены, в кулаке. – Скажи им, чтобы готовили лошадей.
Глава 4
Был как-то свадебный пир.
Я испытываю смешанные чувства на свадьбах. С одной стороны, я рыдаю всю церемонию, и пусть мои слезы бриллиантами блестят в уголках прекрасных глаз, однако гостье неприлично отвлекать внимание от более важных переживаний жениха, невесты и, само собой, их новоявленных родительниц. Что я могу сказать? Я очень чувствительная натура.