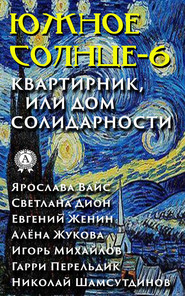По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Диалоги и встречи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
15. Воспоминания о Серебряном веке [Текст]. – М.: Республика, 1993. – С. 373.
16. Волошин, М. Лики творчества [Текст] / М. Волошин. – Л.: Наука, 1988. – С. 407.
17. Бенуа, А. Н. Мои воспоминания [Текст]: в 2-х тт. / А. Н. Бенуа. – М.: Наука, 1993. Т. 2. – С. 475.
18. Алёшина, Л. С. Образы и люди Серебряного века [Текст] / Л. С. Алёшина, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 2002. – С. 33.
19. Евреинов, Н. Н. Театр для себя. Ч. 1.: Теоретическая. [Текст] / Н. Н. Евреинов. – Пг.: Изд-е Н. И. Бутковской, б/ г [1915]. – С. 37.
20. Алёшина, Л. С. Образы и люди Серебряного века [Текст] / Л. С. Алёшина, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 2002. – С. 71.
21. Московский Парнас: Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века (1890 – 1922) [Текст] / [сост., примеч., указатель Т. Ф. Прокопова]. – М.: Интелвак, 2006. – С. 106.
22. Воспоминания о Серебряном веке [Текст]. – М.: Республика, 1993. – С. 349.
23. Московский Парнас: Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века (1890 – 1922) [Текст] / [сост., примеч., указатель Т. Ф. Прокопова]. – М.: Интелвак, 2006. – С. 327—328.
24. Дурылин, С. Н. В своём углу: Из старых тетрадей. [Текст] / С. Н. Дурылин. – М.: Московский рабочий, 1991. – С. 216.
25. Там же – С. 217.
26. Московский Парнас: Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века (1890 – 1922) [Текст] / [сост., примеч., указатель Т. Ф. Прокопова]. – М.: Интелвак, 2006. – С. 328.
27. Лавров, А. В. Русские символисты: этюды и разыскания [Текст] / А. В. Лавров. – М.: Прогресс-Плеяда, 2007. – С. 14.
28. Там же.
29. Воспоминания о Серебряном веке [Текст]. – М.: Республика, 1993. – С. 327.
30. Алёшина, Л. С. Образы и люди Серебряного века [Текст] / Л. С. Алёшина, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 2002. – С. 31.
31. Волошин, М. Лики творчества [Текст] / М. Волошин. – Л.: Наука, 1988. – С. 122.
32. Там же.
33. Алёшина, Л. С. Образы и люди Серебряного века [Текст] / Л. С. Алёшина, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 2002. – С. 77.
34. Апинян, Т. А. Игра в пространстве серьёзного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие [Текст] / Т. А. Апинян. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – С. 189
«Другие берега»: А. Эфрос и его театральные опыты за рубежом
Якушева Л. А.
Имя Анатолия Васильевича Эфроса сейчас соотносится с эпохой расцвета театральной режиссуры ХХ века (конец 50-х – 80-е годы) и стоит в одном ряду с Дж. Стреллером, П. Бруком, Й. Свободой, Г. Товстоноговым, Ю. Любимовым, О. Ефремовым – теми, кто изменил театр, продолжив эксперименты великих реформаторов начала ХХ века – К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, Г. Крэга, А. Арто. Творчеством режиссера, его самоощущением во времени можно определять меру художественной состоятельности советского театра. Вызвано это не только тем, что А. В. Эфрос постоянно работал над совершенствованием стиля, принципами организации театрального дела как творческого процесса, но и примером существования художника в замкнутом идеологическом пространстве, соотношением обстоятельств жизни с возможной самореализацией.
Время, прошедшее после ухода Мастера, позволяет нам из воспоминаний, высказываний критиков и историков театра, наблюдений самого режиссера составить своеобразную экспликацию-комментарий к культурологической модели «свой-чужой», осуществленной А. Эфросом в творческом и личностном становлении. Можно выделить несколько уровней проявления данной оппозиции, которые мы рассматриваем на примере работы Анатолия Васильевича за рубежом. Это работа с актерами иной театральной школы, разных национальностей; отрефлексированный в записях режиссера опыт организации театрального дела и стиль работы иностранцев; переосмысление тех или иных элементов содержания классических произведений при столкновении с «чужим» мировосприятием. Последнее особенно ценно. Так как, осуществляя «перенос» на подмостки иностранного театра уже готового спектакля, режиссер вновь и вновь открывал для себя характеры, мотивы поступков и действий героев, смысловое наполнение известных пьес.
А. В. Эфрос осуществил на зарубежных площадках 5 постановок:
1978 – Н. Гоголь «Женитьба», Театр Гатри (Миннеаполис, США)
1979 – М. Булгаков «Мольер», Театр Гатри, (Миннеаполис, США)
1981 – А. Чехов «Вишневый сад», Театр Тоэн (Токио, Япония);
1982 – И. Тургенев «Наташа» («Месяц в деревне»), Театр Тоэн (Токио, Япония).
1983 А. Чехов «Вишневый сад», Национальный театр (Хельсинки, Финляндия).
«Свои» и «чужие»: работа с актерами
А. В. Эфрос был режиссером очень гибким, адаптивным и внутренне пластичным – самонастраивающимся и всегда готовым к переменам. Он достаточно часто и много (что для того времени не было характерным) работал с актерами разных театров, перемещаясь из театра «своего» в другую среду, другой коллектив. Так, будучи режиссером театра на Малой Бронной, он осуществил постановки в театре на Таганке, во МХАТе, театре им. Моссовета. Получали роли в его постановках и актеры «со стороны»: А. Миронов, М. Ульянов, А. Вертинская. Такие приглашения объяснялось творческими задачами. Ольга Яковлева: «Анатолию Васильевичу хотелось расширить свою палитру, и ввести в театр новые силы – чтобы «свои не бурели», – как он говорил» [1]. Эфрос ставил спектакли на радио, телевидении. Это были постановки в жанре балетных номеров, концерта, («Вешние воды» по И. Тургеневу, «Буря» У. Шекспира), а также 4 кинофильма. Смена площадок, варьирование методов работы во время репетиционного процесса, проба различных сценических жанров, даже видов деятельности – все это помогало преодолевать не только личные комплексы («Я тяжел на подъем и боюсь чужих актеров. Я и своих-то боюсь, а чужих – тем более» [2].), но и формировало некий творческий «запас», который позволял режиссеру не просто осуществлять постановки, но создавать спектакли, становящиеся театральными легендами, как это было с «Вишневым садом на Таганке в 1975 году.
В репетиционном процессе А. Эфрос все время варьировал работу с актерами, практикуя то «режиссерский показ» с этюдным методом, то идя от обозначения «зерна» роли, вызывая, вслед за этим, актеров на импровизацию. В отдельной реплике, в интонации «он показывал суть поведения, настроения, душевного состояния героя» [3]. Личность Анатолия Васильевича в таких показах являлась определяющей, «рождалось то самое творческое самочувствие, когда трудно усидеть на месте, хочется вскочить и немедленно проиграть показанное» [4]. Вот один из примеров режиссерских «подсказок». «У актера не получался монолог… досадливый на свою пропащую жизнь, на общество в котором живет. И тогда Эфрос сказал: «Вам душно. А все окна в этой комнате закрыты. Вы пытаетесь открыть окно. А там что-то заело, и вы его дергаете, дергаете – и никак. И весь свой монолог кладите на это действие, всю вашу злость и досаду на это проклятое окно» [5]. Иногда режиссер шел от личности актера. «В ходе работы он молчаливо следил за действиями исполнителя, подмечая ошибки, по принципу выбора из предложенного, пока не добивался нужного звучания» [6]. Репетируя, А. Эфрос постоянно проверял собственный замысел актерским самочувствием в предложенных обстоятельствах. Он был очень требователен, никогда не ставил точку, даже если спектакль был выпущен. Так, поставив «Ромео и Джульетту», Эфрос продолжал репетировать еще десять (!) лет. То есть, режиссер был готов к тому, чтобы разделить ответственность за сделанную работу не только в момент создания спектакля, но и во время его сценической жизни.
В воспоминаниях, интервью тех, кто работал с режиссером, возникает тема высокой внутренней культуры, творческой одержимости и интеллигентности этого человека, способного пробуждать и воспитывать актерское достоинство. «Он умел преображать людей. На сцене они становились значительнее, красивее» [7]. Или: «Даже никогда не блиставшие актеры на вторых ролях вдруг ощутили интерес к себе, почувствовали собственную значимость» [8].
Обострению внимания, собранности, готовности к работе способствовали, по мнению режиссера, открытые репетиции. На них приходили коллеги, студенты ГИТИСа, друзья и знакомые. На таких публичных репетициях, по мнению режиссера, актеры учились скромности, деловитости, ответственности: «Ты сидишь в окружении людей, ты их чувствуешь, они волнуют тебя, и в то же время ты „выключил“ их и живешь только сценой» [9]. Для многих наблюдавших репетиции запомнились своей «текучестью», незацикленностью на интересных находках, импровизационностью. Однако зафиксировать со «стенографической» точностью работу режиссера над спектаклем было едва ли возможно: «Отрывочность технологических указаний, сочетание междометий с фрагментарными ассоциациями создавали то, что называлось „птичьим языком“. Обволакивающая актеров убежденность в их понимании, активность сопереживания рождавшейся сценической эмоции каждого из них, мягкая властность жеста и цепкость осязаемо следившего за каждым взгляда создавали атмосферу, близкую к гипнотической…» – отмечает в своем исследовании Т. Злотникова [10]. Драматург В. Розов написал своего рода театральную миниатюру о работе режиссера над спектаклем «В добрый час!»: «Сначала нет никого… Никого нет! Никого! Только топ-топ-топ – где-то. А потом сразу фрр-фрр-фрр… И все бегут-бегут-бегут… а потом лениво… Скучно ему, скучно!.. блям-блям-блям – одним пальцем… А потом так вяло, лениво… Знаете, когда много народу, говорить не о чем, а говорить надо, все и тянут, тянут… а потом как ударит кулаком по столу… и сразу началось! Тут уже сцена» [11].
«Играя в голове премьеру» [12], режиссер любил создавать видимость неорганизованности творческого процесса: вот я к вам пришел, но я вообще не помню, какую сцену мы в прошлый раз репетировали. Он пытался все время преодолевать жесткие конструкции спектакля, оставляя пространство для импровизации, изменений, вариаций при сохранении единой партитуры. Поэтому и на самом спектакле присутствовала раскованная «естественность»: «Его актеры (мнение М. Ульянова) играют импровизационно… и как бы освобожденно от темы спектакля, но в то же время настойчиво и упорно проводя ее через роли» [13].
Таким образом, можно констатировать, что основными принципами репетиционного процесса, осуществляемого режиссером в работе и со «своими» и с «чужими» актерами были: активность, подвижность (как эмоциональная, так и физическая); импровизационность и вариативность приемов создания образов; атмосфера лаборатории (соучастия, взаимодействия). То есть, игровую природу театра А. В. Эфрос ощущал, воспроизводил, воссоздавал во время любого этапа работы над спектаклем, а не только в качестве итогового результата.
Работа с иностранными актерами, зарубежными театрами давала возможность, и даже требовала от режиссера способности посмотреть на проблемы создания спектакля и организации театрального дела со стороны. Это были наблюдения человека, профессионально относящегося к делу (в Финляндии «Вишневый сад» режиссер поставил за 3,5 недели), умеющего не только наблюдать, но и предлагать идеи по реформированию, оживлению творческого процесса. Ему открывались общие законы сцены и признаки мастерства. Наблюдая за работой актеров национального театра Финляндии, режиссер отмечал, что «актер любой национальности должен быть внутренне гибок, подвижен» [14]. «На него должно быть интересно смотреть… должно быть интересно вглядываться в его лицо, движения, выражения глаз» [15]. В натуре человека, по мнению режиссера, должно было быть что-то манящее, привлекательное. Открытость, восприимчивость для него становились условием существования не только на сцене, но и в искусстве и, в какой-то мере, частью объективной реакции на происходящее вообще: «Я никогда не слушаю, что говорят, а смотрю, остался ли человек спокоен» [16]. Можно почти с уверенностью утверждать, что опасения по поводу «финской медлительности» у режиссера не только не оправдались, но и нашли свое отражение в размышлениях об особой природе актерского мастерства, как финнов, так и любых актеров в принципе – повышенной возбудимости, эмоциональной изменчивости, подвижности в дополнении с масштабностью личности творческого человека.
Работая в Америке, режиссер зафиксировал такие качества актеров, с которыми работал: «Они вежливы, предупредительны и слегка равнодушны», – отдавая должное их умению включаться в процесс действия и так же быстро от него отходить. «На сцене они, пожалуй, более техничны, чем наши, но может быть, менее душевны» [17]. Для преодоления разницы подходов к репетиционному процессу, Эфрос взвинчивал темп, просил играть (как типично русский режиссер?) «растрачивая себя». Любопытно, что при этом он не только предъявлял требования к актерам, он все время пытался «разгадать»: «Откуда такое отношение к работе, в чем тут стимул, в чем – привычка, где – негласное правило, где – характер» [18]. То есть, постигал сочетание ментальностей, личных проявлений и реакций на происходящее.
Наблюдения за репетиционным процессом – а это отчетливо видно из заметок режиссера – доставляли А. В. Эфросу большое удовольствие. Время от времени он сравнивает американцев с детьми, восхищаясь их способностью привносить в свою жизнь элементы игры, а вместе с ней – подвижность, эмоциональную раскрепощенность, непосредственность и легкость: «Актерская профессия вообще, мне кажется, близка характеру американцев. Они подвижны, открыты и физически удобно себя чувствуют в самых неподходящих обстоятельствах» [19].
Удивительно то, как в работе с классикой А. Эфрос соединял жизненные впечатления с собственным восприятием (прочитыванием, проживанием, проигрыванием) текста. В 1978 году, после поездки в Америку, режиссер осуществил на телевидении инсценизацию романа Эрнеста Хемингуэя «Острова в океане» с М. Ульяновым и Л. Гурченко в главных ролях. Репетируя в театре Гатри, мастер вывел для себя формулу ритмического и действенного построения любого спектакля: «активность, конфликтность, контрастность» [20], впоследствии находя и у Хемингуэя эту особую пластичность языка, «причудливость», в которую эта сущность облекается: «Люди разговаривают… совершенно свободно, импровизируя, они часто даже заходятся в разговоре. То вдруг рванутся куда-то неожиданно в сторону, то бесконечно топчутся на одном месте, повторяя одно и то же слово, фразу, мысль. Это иногда похоже на импровизацию в джазе» [21]. Таким образом, наблюдения – повседневные и частные – соотносилось в сознании режиссера с формой и законами осуществления художественности в отдельно взятом произведении.
За рубежом А. В. Эфрос делал «зарисовки» организации творческого процесса, при этом формулируя, утверждая особую миссию театра, работающего как единый организм: «На каждом участке работы должен быть человек, который абсолютно отвечает за свое дело. Так работают в Америке. Так работают в Японии. У нас такого стиля работы нет… надо за всем следить» [22]. Описывая ситуацию подбора образцов материи для сценографического решения и костюмов при постановке «Женитьбы» в США, режиссер не только констатирует разницу открывшегося выбора, неведомого советскому человеку (постановка осуществлялась в 1978 году), но и фиксирует (отмечая для будущих спектаклей?) реакцию человека, который пытается совладать с собой и быть естественным при внезапно свалившихся на него возможностях. «Нам надо было что-то выбрать, изобразив из себя деловых людей. Как будто мы и у себя дома имеем возможность выбирать из тысячи образцов и понимаем все их оттенки. Мы <…> сохранили достоинство мастеров, приехавших из другой страны. А потом долго молчали подавленные <…> А дома невероятное убожество и бедность. При этом мы должны создавать нечто художественное. Иначе, зачем мы живем и работаем?» [23] Как мы видим, режиссер высоко ценил профессионализм, умение исходить из интересов дела, соблюдая при этом уважение к тем, с кем ты осуществляешь творческий процесс.
«Свои» классики на «чужой» сцене
При сценической интерпретации классики за рубежом в постановочной работе режиссера «сталкивалась» традиция прочтения и современное восприятие, соотносилось прошлое и настоящее. Классику осмысляли люди с другой ментальностью и образом мысли. Объясняя финскому актеру линию поведения Лопахина, Эфрос так характеризовал его отличие от остальных обитателей усадьбы: «Лопахин… у него больше денег, а душа у него тоже нежная, и пальцы как у артиста. Когда вишневого сада не станет, и здесь построят дачи, он, может быть, запьет или застрелится» [24].
Одним из важных смысловых посылов пьесы «Вишневый сад» режиссер считал раскрытие образа Раневской. Сначала он искал оправдание и драматизм действий героини в ее молодости, жизненной незащищенности, позже – в особой надломленности, усталости от пошлой банальности происходящего. Почему Раневская не принимает мер, чтобы спасти свое положение? Этот вопрос заставлял режиссера вновь и вновь обращаться к жизненному опыту тех, кто задавал ему такие вопросы. Так, в беседе с переводчицей с финского, он предлагал поразмышлять: «А знает ли она людей, которым не все равно, за что получать деньги? <…> сейчас в мире тяжело, может ли она что-то сделать, чтобы изменить это тяжелое положение? Нет» [25] Подобные разговоры, вроде бы между делом, между репетициями лишь подчеркивают, что режиссер полностью отдавался работе, отшлифовыванию формы для идей и смыслов, заложенных в тексте, понимая при этом, что Чехов не дает какого-то определенного «рецепта», он всего лишь диагностирует, не отвечает, а вызывает вопросы и размышления.
Однажды, работая в Финляндии, режиссер почувствовал, понял, что исполнителю роли Симеонова-Пищика не нравится играть роль второго плана. В данном случае, объяснение А. Эфроса по поводу необходимого присутствия в пьесе второстепенных лиц было таким: «Люди живут не в безвоздушном пространстве. <…> Можно было бы оставить в пьесе только Раневскую, Лопахина, Гаева. Через эти две-три роли тоже можно было бы прочертить сюжет Вишневого сада. Но у Чехова не так. У него люди живут среди многих других людей. У него почти всегда клубок из множества человеческих отношений» [26]. То, что литературоведческая традиция в поэтике Чехова обозначает как «круг лиц», где нет случайных и второстепенных персонажей, режиссер каждый раз заново открывал через «проживание» текста, привнесение в него собственного опыта, в том числе и читательского: «Если убрать Пищика или Шарлотту, а заодно и Епиходова, то это будет уже специальная литературная камера, куда переместили двух-трех персонажей для какой-то авторской цели» [27]. И здесь же, в отрефлексированных записках мы находим объяснение «своего» Чехова сквозь призму «чужого» Шекспира: «У Чехова обязателен свой шекспировский фон, и в этом фоне важна каждая фигура» [28].
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: