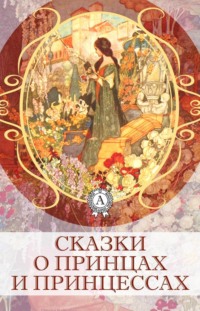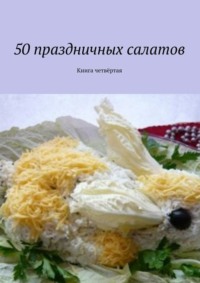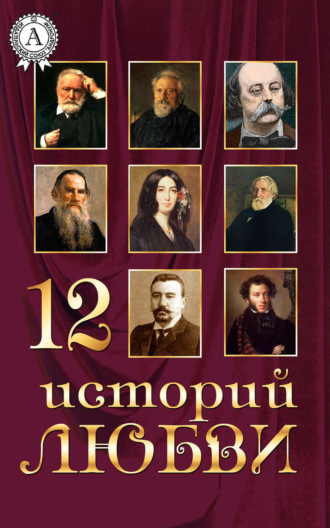
12 историй о любви
– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.
– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…» – и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.
– Что же пить будем?
– Я что хочешь, только немного, шампанское, – сказал Левин.
– Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белою печатью?
– Каше блан, – подхватил татарин.
– Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
– Слушаю-с. Столового какого прикажете?
– Нюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.
– Слушаю-с. Сыру вашего прикажете?
– Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?
– Нет, мне все равно, – не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.
И татарин с развевающимися фалдами над широким тазом побежал и чрез пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.
Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.
– А недурны, – говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. – Недурны, – повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.
Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам[39], с заметною улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.
– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен? А?
Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар – все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.
– Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, – сказал он. – Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя…
– Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, – смеясь, сказал Степан Аркадьич.
– Не могу, – отвечал Левин. – Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.
Степан Аркадьич весело улыбался.
– Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум…
– Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы…
– Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: изо всего сделать наслаждение.
– Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.
– Ты и так дик. Вы все, Левины, дики.
Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.
– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами.
– Да, я непременно поеду, – отвечал Левин. – Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.
– Что ты! Вздор какой! Это ее манера… Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, grand dame,[40] – сказал Степан Аркадьич. – Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает.
– Да, – сказал Левин медленно и взволнованно. – Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал.
– О, какой ты счастливец! – подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.
– Отчего?
– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам[41], юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди.
– А у тебя разве уж назади?
– Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее так, в пересыпочку.
– А что?
– Да нехорошо. Ну, да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, – сказал Степан Аркадьич. – Так ты зачем же приехал в Москву?.. Эй, принимай! – крикнул он татарину.
– Ты догадываешься? – отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.
– Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, – сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.
– Ну что же ты скажешь мне? – сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. – Как ты смотришь на это?
Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.
– Я? – сказал Степан Аркадьич, – я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.
– Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. – Ты думаешь, что это возможно?
– Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?
– Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен…
– Отчего же ты это думаешь? – улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.
– Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.
– Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.
– Да, всякая девушка, но не она.
Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт – это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.
– Постой, соуса возьми, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.
Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьичу.
– Нет, ты постой, постой, – сказал он. – Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради Бога, будь вполне откровенен.
– Я тебе говорю, что я думаю, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу; моя жена – удивительнейшая женщина… – Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал: – У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она – на твоей стороне.
– То есть как?
– Так, что она мало того что любит тебя, – она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.
При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.
– Она это говорит! – вскрикнул Левин. – Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, – сказал он, вставая с места.
– Хорошо, но садись же, вот и суп.
Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке-комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.
– Ты пойми, – сказал он, – что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить…
– Для чего же ты уезжал?
– Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл… Я нынче узнал, что брат Николай… знаешь, он тут… я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно… Вот ты женился, ты знаешь это чувство… Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим… не любви, а грехов… вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.
– Ну, у тебя грехов немного.
– Ах, все-таки, – сказал Левин, – все-таки, «с отвращением читая жизнь мою[42], я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь…». Да.
– Что ж делать, так мир устроен, – сказал Степан Аркадьич.
– Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.
XI
Левин выпил свой бокал, и они помолчали.
– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.
– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?
– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.
– Зачем мне знать Вронского?
– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.
– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.
– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.
Левин хмурился и молчал.
– Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать…
– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.
– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.
Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.
– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.
– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян… Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор.
– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя Бог…
– Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, – сказал Левин.
Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.
Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина.
– Приеду когда-нибудь, – сказал он. – Да, брат, женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.
– Но в чем же?
– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной…
– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы… все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач[43].
Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.
– Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься.
Himmlisch ist’s, wenn ich bezwungen[44]Meine irdische Begier;Aber doch wenn’s nicht gelungen,Hatt’ich auch recht hubsch Plaisir![45]Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.
– Да, но без шуток, – продолжал Облонский. – Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, – ты пойми, – неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?
– Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта… то есть нет… вернее: есть женщины, и есть… Я прелестных падших созданий не видал[46] и не увижу, а такие, как та крашеная француженка у конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же.
– А евангельская?
– Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Изо всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я.
– Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин[47], который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта – не ответ. Что же делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! – с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич.
Левин усмехнулся.
– Да, и пропал, – продолжал Облонский. – Но что же делать?
– Не красть калачей.
Степан Аркадьич рассмеялся.
– О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.
– Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь… обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире»[48], обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтенье», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что…
В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил:
– А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть… Но я не знаю, решительно не знаю.
– Вот видишь ли, – сказал Степан Аркадьич, – ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность, потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света.
Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского.
И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.
– Счет! – крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение.
Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.
XII
Княжне Кити Щербацкой было восьмнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский.
Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгинею. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию.
Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», – думала мать.
Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.
Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении.
Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидал невесту, и его увидали; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся обыкновенным, дело – выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшой, переживались те же страхи, те же сомнения и еще большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы[49], свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде», – думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай – родителям решать судьбу детей – был не принят, осуждался. Английский обычай – совершенной свободы девушки – был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми.
Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушке и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню, но совершенно спокойною она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», – сказал он.
Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения; однако ей так хотелось и самого брака и, более всего, успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастие старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшой дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела, столь близкого к окончанию.
– Что он, давно ли приехал? – сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.
– Нынче, maman.
– Я одно хочу сказать… – начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.
– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.
Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее.
– Я только хочу сказать, что, подав надежду одному…
– Мама, голубчик, ради Бога, не говорите. Так страшно говорить про это.