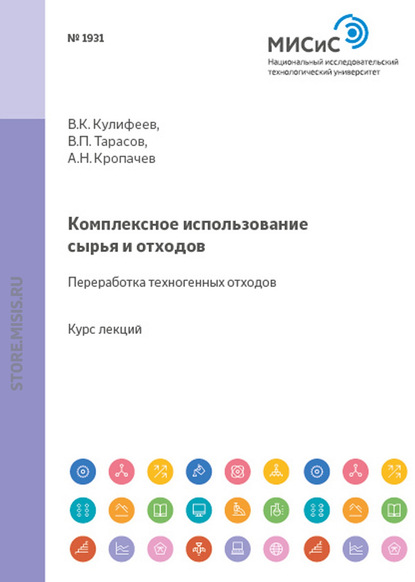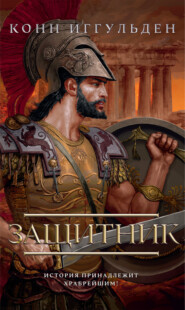По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кости холмов. Империя серебра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Странно было слышать такие слова от монаха, обычно довольно сдержанного в высказываниях, и Хо Са вздрогнул от неожиданности.
– Этот «злобный мальчишка» может однажды возглавить монголов, – прошептала Чахэ.
Яо Шу даже фыркнул:
– Мне иногда кажется, что я слишком долго живу среди этих племен. Мне не следует тревожиться о том, кто из них унаследует бунчук своего отца, и даже о том, одержат ли их новые враги верх в этой войне.
– Здесь у тебя есть друзья, Яо Шу, – напомнил Хо Са. – Почему тебе безразлична наша судьба?
Монах задумчиво нахмурил лоб.
– Когда-то я считал, что смогу быть голосом разума среди этих людей. Смогу повлиять на хана и его братьев, – с горечью произнес Яо Шу. – Самоуверенность молодости. Я думал тогда, что вселю мир в ожесточенные сердца его сыновей. – Щеки монаха немного порозовели. – Но вместо этого я, возможно, еще увижу, как Чагатай возглавит народ своего отца и поведет племена на войну еще более кровавую и разрушительную, чем велась до сих пор.
– Ты и сам сказал, что он еще мальчишка, – тихо произнесла Чахэ, растроганная переживаниями монаха. – Он будет учиться. А может, племена возглавит Джучи.
Голос принцессы смягчил лицо монаха. Он протянул руку и легонько погладил Чахэ по плечу:
– Сегодня был трудный день, принцесса. Забудьте, что я сказал. Завтра я буду другим человеком, без прошлого и с неизвестностью впереди, как всегда. Простите, что пришел с плохим настроением. – Монах слегка скривил рот. – Порой мне кажется, что я плохой буддист, но я не смог бы жить где-то еще.
Чахэ улыбнулась, кивая Яо Шу. А погруженный в раздумья Хо Са снова налил себе чая. Когда Хо Са наконец заговорил, его голос был очень тихим и едва можно было разобрать слова:
– Если Чингис падет на войне, ханом станет Хачиун. У него тоже есть дети, и все мы будем как листья на ветру.
Чахэ вскинула голову и прислушалась. В свете масляной лампы принцесса была прекрасна, и Хо Са вновь подумалось, что хан счастливый человек, раз обладает такой женщиной.
– Если муж назначит своим преемником кого-то из сыновей, Хачиун наверняка будет считаться с его решением.
– Если вы подтолкнете его к этому, он назовет Чагатая, – заметил Хо Са. – Ни для кого не секрет, что хан недолюбливает Джучи, а Угэдэй и Толуй еще слишком малы. – Хо Са сделал паузу, подозревая, что Чингису вряд ли понравилось бы, что посторонние мужчины обсуждают с его женой такой личный вопрос. Но любопытство взяло верх. – Вы говорили с ханом об этом?
– Пока нет, – ответила Чахэ. – Но вы правы. Я не хочу, чтобы власть унаследовали сыновья Хачиуна. Что было бы со мной в таком случае? Еще не так давно племена изгоняли родню покойного хана.
– Чингису это известно лучше, чем кому-либо, – сказал Хо Са. – Ему не хотелось бы, чтобы вы страдали, как страдала его мать.
Принцесса кивнула. Было так приятно поговорить открыто на родном языке, совсем не похожем на монгольскую речь с ее гортанными звуками и придыханиями. Чахэ поняла, что скорее предпочла бы вернуться к отцу, чем видеть Чагатая у власти, но Хо Са говорил правду. Хачиун имел своих жен и детей. Будут ли они обходиться с ней так же хорошо, как сейчас, если ее муж погибнет? Возможно, Хачиун будет уважать ее или даже отправит домой в Си Ся. Хотя для Хачиуна было бы безопаснее истребить жен и сыновей прежнего хана сразу после его смерти, дабы упредить заговоры. И Чахэ, взволнованная столь мрачными мыслями, прикусила губу. Чингис не сделает своим наследником Джучи. В этом она не сомневалась. Юноша не вставал с постели уже больше месяца, а ведь тот, кто хотел бы править народом, должен чаще показываться на люди, чтобы его не забыли. Но и Чагатай, по мнению принцессы, тоже был не лучшим выбором. Она была уверена: ее детям при нем долго не протянуть. И тогда она подумала, что могла бы использовать все свое очарование, чтобы склонить Чагатая на свою сторону.
– Я подумаю над этим, – заявила она друзьям. – Мы найдем правильный выход.
На улице стонал и завывал ветер, проносясь между телегами и монгольскими юртами. Позволив мужчинам откланяться и идти спать, Чахэ попрощалась, и оба расслышали печаль в ее голосе.
Выйдя на ветер и снег, Яо Шу съежился от холода и укутался потеплее. Однако его беспокоил не только холод, к которому монах привык за столько лет жизни среди кочевников. Время от времени Яо Шу чувствовал, что совершил ошибку, придя к коневодам степей. Он любил этих людей за их детскую непосредственность и глубокое убеждение в возможности подстроить мир под себя. Хан монголов поражал Яо Шу умением завоевывать души людей и способностью вести за собой племена. Но старания монаха найти среди этих кочевников тех, кто готов был внять слову Будды, не увенчались успехом. Только маленький Толуй, казалось, принимал его учение, да и то потому лишь, что был еще слишком юн. Его брат Чагатай беззастенчиво осмеивал всякую философию, отрицавшую грубое насилие и беспощадное истребление врагов, тогда как Джучи слушал монаха без особого интереса, не позволяя словам и идеям западать в душу.
Яо Шу шел в глубокой задумчивости по заснеженным тропам лагеря. Но даже теперь он сохранял бдительность и, едва завидев зловещие тени, понял, что попал в западню. Тени надвигались на него со всех сторон. Монах досадливо вздохнул. Лишь один глупый мальчишка мог подослать их к нему в эту ночь. Отправляясь к Чахэ, Яо Шу даже не захватил свою трость, полагая, что находится в безопасности.
И все-таки он был далеко не ребенок, чтобы позволить этим дуракам застигнуть его врасплох. Готовясь отразить нападение, Яо Шу подумал о том, велел ли Чагатай своим людям убить его или только сломать пару ребер? Хотя это и не имело значения: его ответ был бы одинаков и в том и в другом случае. Вместе с кружащимся снежным вихрем монах юркнул в просвет между юртами и первым налетел на мелькнувшую впереди темную фигуру. Человек оказался слишком медлительным, и монах свалил его одним ударом в челюсть. Яо Шу не собирался никого убивать, но, услышав, как на шум потасовки отозвались голоса остальных нападавших, понял, что их было много. Глухой топот шагов доносился со всех сторон, и Яо Шу сосредоточился, пытаясь совладать с гневом в груди. Маловероятно, чтобы он знал нападавших, вряд ли и они знали его. Монах почему-то снова подумал, что время, проведенное среди этих племен, слегка изменило его. Будда словно покровительствовал им, глядя на все сквозь пальцы. Яо Шу думал об этом, подбираясь к другой тени. Холод, по крайней мере, больше не ощущался.
– Куда он делся? – прошипел кто-то всего в шаге от него.
Яо Шу внезапно возник за спиной говорившего и опрокинул его на землю, прежде чем тот смог оказать сопротивление, затем скользнул вперед. Испуганный крик упавшего человека отразился эхом от высоких утесов, и Яо Шу услышал быстрое приближение еще нескольких мужчин.
Первого из них он встретил мощным ударом по ребрам, почувствовав, как они хрустнули под краем его ладони, затем быстро отскочил назад. Заметив какое-то движение, монах инстинктивно увернулся, но из-за снега не увидел еще двоих воинов, один из которых резко обхватил Яо Шу за талию и швырнул на твердую землю.
Яо Шу пнул нападавшего ногой, но уткнулся во что-то твердое, больно ударив стопу. Монах поднялся и окинул взглядом неприветливые лица окружавших его людей. Ему было досадно узнать среди них троих юношей из своего же учебного класса. Но эти хотя бы отводили глаза. Остальных, что держали тяжелые палки, монах не знал.
– Теперь ты попался, монах, – сказал чей-то низкий голос.
Яо Шу приготовился, чуть присев на полусогнутых ногах, чтобы лучше держать равновесие. Он понимал, что со всеми ему не справиться, но снова был готов преподать урок.
Восемь человек набросились на него со всех сторон, и Яо Шу уже почти прошмыгнул между двумя из них и едва не вырвался на свободу, когда, к несчастью, кто-то схватил его за платье. Почувствовав, как чьи-то пальцы скользнули по его бритой макушке, монах резко откинул назад голову и с разворота ударил нападавшего ногой по коленям. Хватаясь за разбитые колени, человек с криком грохнулся в снег, но к этому времени монах получил множество сильных ударов палками и потерял ориентацию. Яо Шу еще пытался отбиваться ногами, кулаками и головой, но его сбили с ног. Тяжелые палки поднимались и опускались с безжалостной яростью. Монах не издал ни звука, даже когда кто-то наступил ему на правую ногу, раздробив мелкие кости ступни.
Перед тем как Яо Шу лишился сознания, он как будто услышал голос Хачиуна и понял, что нападавшие оставили его и растворились за белой завесой снега. Монах лежал на земле, а в голове, точно вихрь белых снежинок, кружились слова его учителей. Они когда-то говорили ему, что держать в себе гнев – все равно что хвататься за раскаленный уголь, только сам обожжешься. Но когда сильные руки подняли монаха с земли, он еще крепче ухватился за свой уголек и чувствовал лишь тепло.
Глава 8
Когда Хачиун вошел в юрту, предназначенную для ухода за ранеными, Яо Шу поднял глаза. Днем больных мужчин и женщин, хорошенько укутанных мехами, везли на телегах. Всегда находился кто-то, кому следовало проколоть нарыв или перевязать рану. Троих из тех, что лежали вместе с монахом, он знал. Это были те юноши, которым досталось от самого Яо Шу. Монах не разговаривал с ними. Его молчание как будто смущало их, и они отводили глаза.
Добродушно поприветствовав Джучи, Хачиун присел на краешек его постели. Полководец был рад перекинуться с ним парой слов. Во время беседы Хачиун восхищенно поглаживал жесткие складки и плоскую морду тигровой шкуры, что лежала в ногах у Джучи. И Яо Шу заметил, что двое мужчин были друзьями. Субудай тоже приходил каждый день на рассвете, и Джучи, несмотря на уединение, был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в лагере. Наблюдая с некоторым любопытством за разговором дяди с племянником, Яо Шу пощупал повязку на разбитой ноге и слегка вздрогнул.
Закончив беседу с Джучи, Хачиун повернулся к монаху. Полководец явно не находил нужных слов, чтобы начать разговор. Хачиун знал не хуже других, что подстроить нападение на монаха мог лишь Чагатай, но так же хорошо понимал, что это недоказуемо. Чагатай горделиво расхаживал по лагерю, и многие воины смотрели на юношу, выражая ему поддержку и одобрение. Для этих людей в мести не было ничего постыдного, и Хачиун догадывался, что? думает об этом происшествии Чингис. Сна из-за этого хан точно не лишится. Лагерь – суровый мир, и Хачиун думал, как бы объяснить это монаху.
– Кокэчу говорит, что через несколько недель начнешь ходить, – наконец сказал Хачиун.
– Со мной все будет в порядке, командир. Наше тело – это животное. На мне все заживет как на собаке, – пожал плечами Яо Шу.
– Мне ничего не известно о тех людях, которые напали на тебя, – солгал Хачиун; Яо Шу машинально перевел взгляд на тех троих, что лежали рядом. – Драки в лагере случаются постоянно, – добавил Хачиун, разведя руками.
Яо Шу смотрел на него спокойно, лишь удивляясь тому, что брат хана, похоже, чувствует себя виноватым. Ведь он не принимал в этом никакого участия и мог ли отвечать за Чагатая? Вряд ли. Более того, если бы не появление Хачиуна, монаха покалечили бы куда серьезнее. Нападавшие разбежались по своим юртам, унеся с собой раненых. Яо Шу почти не сомневался, что Хачиун мог бы назвать всех их поименно, если бы захотел, и, возможно, даже упомянул бы их родню. Но какое это имело значение? Монголы свято чтили законы мести, а Яо Шу не держал зла на юных глупцов, действующих по указке. Однако монах все же поклялся себе преподать Чагатаю новый урок, когда придет время.
Монаху было досадно, что его убеждения отошли на второй план, уступив место столь низменному желанию, но он не мог ничего с этим поделать и с нетерпением ждал, когда представится случай. При людях Чагатая об этом нельзя было говорить, но они быстро поправлялись, и в скором времени Джучи должен был остаться единственным соседом монаха по больничной юрте. Возможно, в лице Чагатая Яо Шу нажил себе врага, но он видел поединок с тигром. И, глядя на огромную полосатую шкуру на постели Джучи, монах не сомневался, что приобрел еще и союзника. Яо Шу казалось, что тангутская принцесса тоже обрадуется, когда узнает об этом.
Снаружи раздался голос Чингиса, и Хачиун машинально поднялся с постели. Вошел хан, и все сразу заметили, что его лицо сильно опухло и раскраснелось, левый глаз едва открывался.
Оглядевшись по сторонам, хан поприветствовал кивком Яо Шу и заговорил с братом. На Джучи хан не обратил никакого внимания, словно того и вовсе не существовало.
– Где Кокэчу, брат? Зуб надо рвать.
Шаман вышел на слова хана, принеся с собой странный запах, от которого Яо Шу поморщился. Тощего чародея и кудесника монах невзлюбил. Он признавал, что шаман искусно лечит переломы, но Кокэчу обходился с больными как с надоедливыми насекомыми и беззастенчиво заискивал перед ханом и его полководцами.
– Зуб, Кокэчу, – пожаловался Чингис. – Пора.
Крупные капли пота стекали по его лбу, и Яо Шу догадался, что хан испытывает острую боль, хотя привычку не показывать свои чувства он возвел в культ. Яо Шу иногда казалось, что эти монголы просто какие-то ненормальные. Боль – всего лишь часть жизни. Боль следовало принимать и стараться понять, но не подавлять и носить в себе.
– Конечно, мой великий хан, – ответил Кокэчу. – Я вырву его и дам еще травы, чтобы снять опухоль. Ложись на спину, господин, и открой рот как можно шире.
Хан неохотно разлегся на последней свободной койке и запрокинул голову так, что Яо Шу смог даже увидеть воспаленную плоть. Монах отметил при этом, что у монголов хорошие зубы. Коричневый обломок четко выделялся в ряду белых зубов. Яо Шу склонялся к тому, что мясной рацион этих людей был источником их силы и жестокости. Сам монах избегал употребления мясной пищи, полагая, что она причина хворей и дурного настроения. Правда, монголы как будто процветали, питаясь только мясом и молоком.
Кокэчу развернул кожаный сверток, в котором хранились маленькие кузнечные щипцы и набор тонких ножей. Чингис покосился на инструменты, но, заметив, что монах наблюдает за ним, взял себя в руки и принял бесстрастное выражение лица, впечатлив монаха своим спокойствием. Хан, видимо, решил расценивать предстоящую экзекуцию как суровое испытание, и Яо Шу оставалось гадать, сохранит ли хан хладнокровие до конца.
Кокэчу щелкнул щипцами и сделал глубокий вдох, чтобы унять дрожь в руках. Заглянув в открытый рот хана, шаман крепко сжал губы, не решаясь взяться за дело.
– Этот «злобный мальчишка» может однажды возглавить монголов, – прошептала Чахэ.
Яо Шу даже фыркнул:
– Мне иногда кажется, что я слишком долго живу среди этих племен. Мне не следует тревожиться о том, кто из них унаследует бунчук своего отца, и даже о том, одержат ли их новые враги верх в этой войне.
– Здесь у тебя есть друзья, Яо Шу, – напомнил Хо Са. – Почему тебе безразлична наша судьба?
Монах задумчиво нахмурил лоб.
– Когда-то я считал, что смогу быть голосом разума среди этих людей. Смогу повлиять на хана и его братьев, – с горечью произнес Яо Шу. – Самоуверенность молодости. Я думал тогда, что вселю мир в ожесточенные сердца его сыновей. – Щеки монаха немного порозовели. – Но вместо этого я, возможно, еще увижу, как Чагатай возглавит народ своего отца и поведет племена на войну еще более кровавую и разрушительную, чем велась до сих пор.
– Ты и сам сказал, что он еще мальчишка, – тихо произнесла Чахэ, растроганная переживаниями монаха. – Он будет учиться. А может, племена возглавит Джучи.
Голос принцессы смягчил лицо монаха. Он протянул руку и легонько погладил Чахэ по плечу:
– Сегодня был трудный день, принцесса. Забудьте, что я сказал. Завтра я буду другим человеком, без прошлого и с неизвестностью впереди, как всегда. Простите, что пришел с плохим настроением. – Монах слегка скривил рот. – Порой мне кажется, что я плохой буддист, но я не смог бы жить где-то еще.
Чахэ улыбнулась, кивая Яо Шу. А погруженный в раздумья Хо Са снова налил себе чая. Когда Хо Са наконец заговорил, его голос был очень тихим и едва можно было разобрать слова:
– Если Чингис падет на войне, ханом станет Хачиун. У него тоже есть дети, и все мы будем как листья на ветру.
Чахэ вскинула голову и прислушалась. В свете масляной лампы принцесса была прекрасна, и Хо Са вновь подумалось, что хан счастливый человек, раз обладает такой женщиной.
– Если муж назначит своим преемником кого-то из сыновей, Хачиун наверняка будет считаться с его решением.
– Если вы подтолкнете его к этому, он назовет Чагатая, – заметил Хо Са. – Ни для кого не секрет, что хан недолюбливает Джучи, а Угэдэй и Толуй еще слишком малы. – Хо Са сделал паузу, подозревая, что Чингису вряд ли понравилось бы, что посторонние мужчины обсуждают с его женой такой личный вопрос. Но любопытство взяло верх. – Вы говорили с ханом об этом?
– Пока нет, – ответила Чахэ. – Но вы правы. Я не хочу, чтобы власть унаследовали сыновья Хачиуна. Что было бы со мной в таком случае? Еще не так давно племена изгоняли родню покойного хана.
– Чингису это известно лучше, чем кому-либо, – сказал Хо Са. – Ему не хотелось бы, чтобы вы страдали, как страдала его мать.
Принцесса кивнула. Было так приятно поговорить открыто на родном языке, совсем не похожем на монгольскую речь с ее гортанными звуками и придыханиями. Чахэ поняла, что скорее предпочла бы вернуться к отцу, чем видеть Чагатая у власти, но Хо Са говорил правду. Хачиун имел своих жен и детей. Будут ли они обходиться с ней так же хорошо, как сейчас, если ее муж погибнет? Возможно, Хачиун будет уважать ее или даже отправит домой в Си Ся. Хотя для Хачиуна было бы безопаснее истребить жен и сыновей прежнего хана сразу после его смерти, дабы упредить заговоры. И Чахэ, взволнованная столь мрачными мыслями, прикусила губу. Чингис не сделает своим наследником Джучи. В этом она не сомневалась. Юноша не вставал с постели уже больше месяца, а ведь тот, кто хотел бы править народом, должен чаще показываться на люди, чтобы его не забыли. Но и Чагатай, по мнению принцессы, тоже был не лучшим выбором. Она была уверена: ее детям при нем долго не протянуть. И тогда она подумала, что могла бы использовать все свое очарование, чтобы склонить Чагатая на свою сторону.
– Я подумаю над этим, – заявила она друзьям. – Мы найдем правильный выход.
На улице стонал и завывал ветер, проносясь между телегами и монгольскими юртами. Позволив мужчинам откланяться и идти спать, Чахэ попрощалась, и оба расслышали печаль в ее голосе.
Выйдя на ветер и снег, Яо Шу съежился от холода и укутался потеплее. Однако его беспокоил не только холод, к которому монах привык за столько лет жизни среди кочевников. Время от времени Яо Шу чувствовал, что совершил ошибку, придя к коневодам степей. Он любил этих людей за их детскую непосредственность и глубокое убеждение в возможности подстроить мир под себя. Хан монголов поражал Яо Шу умением завоевывать души людей и способностью вести за собой племена. Но старания монаха найти среди этих кочевников тех, кто готов был внять слову Будды, не увенчались успехом. Только маленький Толуй, казалось, принимал его учение, да и то потому лишь, что был еще слишком юн. Его брат Чагатай беззастенчиво осмеивал всякую философию, отрицавшую грубое насилие и беспощадное истребление врагов, тогда как Джучи слушал монаха без особого интереса, не позволяя словам и идеям западать в душу.
Яо Шу шел в глубокой задумчивости по заснеженным тропам лагеря. Но даже теперь он сохранял бдительность и, едва завидев зловещие тени, понял, что попал в западню. Тени надвигались на него со всех сторон. Монах досадливо вздохнул. Лишь один глупый мальчишка мог подослать их к нему в эту ночь. Отправляясь к Чахэ, Яо Шу даже не захватил свою трость, полагая, что находится в безопасности.
И все-таки он был далеко не ребенок, чтобы позволить этим дуракам застигнуть его врасплох. Готовясь отразить нападение, Яо Шу подумал о том, велел ли Чагатай своим людям убить его или только сломать пару ребер? Хотя это и не имело значения: его ответ был бы одинаков и в том и в другом случае. Вместе с кружащимся снежным вихрем монах юркнул в просвет между юртами и первым налетел на мелькнувшую впереди темную фигуру. Человек оказался слишком медлительным, и монах свалил его одним ударом в челюсть. Яо Шу не собирался никого убивать, но, услышав, как на шум потасовки отозвались голоса остальных нападавших, понял, что их было много. Глухой топот шагов доносился со всех сторон, и Яо Шу сосредоточился, пытаясь совладать с гневом в груди. Маловероятно, чтобы он знал нападавших, вряд ли и они знали его. Монах почему-то снова подумал, что время, проведенное среди этих племен, слегка изменило его. Будда словно покровительствовал им, глядя на все сквозь пальцы. Яо Шу думал об этом, подбираясь к другой тени. Холод, по крайней мере, больше не ощущался.
– Куда он делся? – прошипел кто-то всего в шаге от него.
Яо Шу внезапно возник за спиной говорившего и опрокинул его на землю, прежде чем тот смог оказать сопротивление, затем скользнул вперед. Испуганный крик упавшего человека отразился эхом от высоких утесов, и Яо Шу услышал быстрое приближение еще нескольких мужчин.
Первого из них он встретил мощным ударом по ребрам, почувствовав, как они хрустнули под краем его ладони, затем быстро отскочил назад. Заметив какое-то движение, монах инстинктивно увернулся, но из-за снега не увидел еще двоих воинов, один из которых резко обхватил Яо Шу за талию и швырнул на твердую землю.
Яо Шу пнул нападавшего ногой, но уткнулся во что-то твердое, больно ударив стопу. Монах поднялся и окинул взглядом неприветливые лица окружавших его людей. Ему было досадно узнать среди них троих юношей из своего же учебного класса. Но эти хотя бы отводили глаза. Остальных, что держали тяжелые палки, монах не знал.
– Теперь ты попался, монах, – сказал чей-то низкий голос.
Яо Шу приготовился, чуть присев на полусогнутых ногах, чтобы лучше держать равновесие. Он понимал, что со всеми ему не справиться, но снова был готов преподать урок.
Восемь человек набросились на него со всех сторон, и Яо Шу уже почти прошмыгнул между двумя из них и едва не вырвался на свободу, когда, к несчастью, кто-то схватил его за платье. Почувствовав, как чьи-то пальцы скользнули по его бритой макушке, монах резко откинул назад голову и с разворота ударил нападавшего ногой по коленям. Хватаясь за разбитые колени, человек с криком грохнулся в снег, но к этому времени монах получил множество сильных ударов палками и потерял ориентацию. Яо Шу еще пытался отбиваться ногами, кулаками и головой, но его сбили с ног. Тяжелые палки поднимались и опускались с безжалостной яростью. Монах не издал ни звука, даже когда кто-то наступил ему на правую ногу, раздробив мелкие кости ступни.
Перед тем как Яо Шу лишился сознания, он как будто услышал голос Хачиуна и понял, что нападавшие оставили его и растворились за белой завесой снега. Монах лежал на земле, а в голове, точно вихрь белых снежинок, кружились слова его учителей. Они когда-то говорили ему, что держать в себе гнев – все равно что хвататься за раскаленный уголь, только сам обожжешься. Но когда сильные руки подняли монаха с земли, он еще крепче ухватился за свой уголек и чувствовал лишь тепло.
Глава 8
Когда Хачиун вошел в юрту, предназначенную для ухода за ранеными, Яо Шу поднял глаза. Днем больных мужчин и женщин, хорошенько укутанных мехами, везли на телегах. Всегда находился кто-то, кому следовало проколоть нарыв или перевязать рану. Троих из тех, что лежали вместе с монахом, он знал. Это были те юноши, которым досталось от самого Яо Шу. Монах не разговаривал с ними. Его молчание как будто смущало их, и они отводили глаза.
Добродушно поприветствовав Джучи, Хачиун присел на краешек его постели. Полководец был рад перекинуться с ним парой слов. Во время беседы Хачиун восхищенно поглаживал жесткие складки и плоскую морду тигровой шкуры, что лежала в ногах у Джучи. И Яо Шу заметил, что двое мужчин были друзьями. Субудай тоже приходил каждый день на рассвете, и Джучи, несмотря на уединение, был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в лагере. Наблюдая с некоторым любопытством за разговором дяди с племянником, Яо Шу пощупал повязку на разбитой ноге и слегка вздрогнул.
Закончив беседу с Джучи, Хачиун повернулся к монаху. Полководец явно не находил нужных слов, чтобы начать разговор. Хачиун знал не хуже других, что подстроить нападение на монаха мог лишь Чагатай, но так же хорошо понимал, что это недоказуемо. Чагатай горделиво расхаживал по лагерю, и многие воины смотрели на юношу, выражая ему поддержку и одобрение. Для этих людей в мести не было ничего постыдного, и Хачиун догадывался, что? думает об этом происшествии Чингис. Сна из-за этого хан точно не лишится. Лагерь – суровый мир, и Хачиун думал, как бы объяснить это монаху.
– Кокэчу говорит, что через несколько недель начнешь ходить, – наконец сказал Хачиун.
– Со мной все будет в порядке, командир. Наше тело – это животное. На мне все заживет как на собаке, – пожал плечами Яо Шу.
– Мне ничего не известно о тех людях, которые напали на тебя, – солгал Хачиун; Яо Шу машинально перевел взгляд на тех троих, что лежали рядом. – Драки в лагере случаются постоянно, – добавил Хачиун, разведя руками.
Яо Шу смотрел на него спокойно, лишь удивляясь тому, что брат хана, похоже, чувствует себя виноватым. Ведь он не принимал в этом никакого участия и мог ли отвечать за Чагатая? Вряд ли. Более того, если бы не появление Хачиуна, монаха покалечили бы куда серьезнее. Нападавшие разбежались по своим юртам, унеся с собой раненых. Яо Шу почти не сомневался, что Хачиун мог бы назвать всех их поименно, если бы захотел, и, возможно, даже упомянул бы их родню. Но какое это имело значение? Монголы свято чтили законы мести, а Яо Шу не держал зла на юных глупцов, действующих по указке. Однако монах все же поклялся себе преподать Чагатаю новый урок, когда придет время.
Монаху было досадно, что его убеждения отошли на второй план, уступив место столь низменному желанию, но он не мог ничего с этим поделать и с нетерпением ждал, когда представится случай. При людях Чагатая об этом нельзя было говорить, но они быстро поправлялись, и в скором времени Джучи должен был остаться единственным соседом монаха по больничной юрте. Возможно, в лице Чагатая Яо Шу нажил себе врага, но он видел поединок с тигром. И, глядя на огромную полосатую шкуру на постели Джучи, монах не сомневался, что приобрел еще и союзника. Яо Шу казалось, что тангутская принцесса тоже обрадуется, когда узнает об этом.
Снаружи раздался голос Чингиса, и Хачиун машинально поднялся с постели. Вошел хан, и все сразу заметили, что его лицо сильно опухло и раскраснелось, левый глаз едва открывался.
Оглядевшись по сторонам, хан поприветствовал кивком Яо Шу и заговорил с братом. На Джучи хан не обратил никакого внимания, словно того и вовсе не существовало.
– Где Кокэчу, брат? Зуб надо рвать.
Шаман вышел на слова хана, принеся с собой странный запах, от которого Яо Шу поморщился. Тощего чародея и кудесника монах невзлюбил. Он признавал, что шаман искусно лечит переломы, но Кокэчу обходился с больными как с надоедливыми насекомыми и беззастенчиво заискивал перед ханом и его полководцами.
– Зуб, Кокэчу, – пожаловался Чингис. – Пора.
Крупные капли пота стекали по его лбу, и Яо Шу догадался, что хан испытывает острую боль, хотя привычку не показывать свои чувства он возвел в культ. Яо Шу иногда казалось, что эти монголы просто какие-то ненормальные. Боль – всего лишь часть жизни. Боль следовало принимать и стараться понять, но не подавлять и носить в себе.
– Конечно, мой великий хан, – ответил Кокэчу. – Я вырву его и дам еще травы, чтобы снять опухоль. Ложись на спину, господин, и открой рот как можно шире.
Хан неохотно разлегся на последней свободной койке и запрокинул голову так, что Яо Шу смог даже увидеть воспаленную плоть. Монах отметил при этом, что у монголов хорошие зубы. Коричневый обломок четко выделялся в ряду белых зубов. Яо Шу склонялся к тому, что мясной рацион этих людей был источником их силы и жестокости. Сам монах избегал употребления мясной пищи, полагая, что она причина хворей и дурного настроения. Правда, монголы как будто процветали, питаясь только мясом и молоком.
Кокэчу развернул кожаный сверток, в котором хранились маленькие кузнечные щипцы и набор тонких ножей. Чингис покосился на инструменты, но, заметив, что монах наблюдает за ним, взял себя в руки и принял бесстрастное выражение лица, впечатлив монаха своим спокойствием. Хан, видимо, решил расценивать предстоящую экзекуцию как суровое испытание, и Яо Шу оставалось гадать, сохранит ли хан хладнокровие до конца.
Кокэчу щелкнул щипцами и сделал глубокий вдох, чтобы унять дрожь в руках. Заглянув в открытый рот хана, шаман крепко сжал губы, не решаясь взяться за дело.