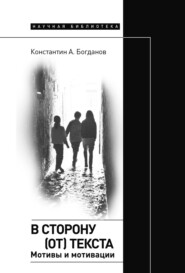По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…». Путеводитель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он пришел к прелестнице,
Розовый от страсти.
И сказал: – Красавица,
Разлучившись с светом,
Хочешь позабавиться
Ласками с поэтом?
<…>
От восторгов выгорим
В неге сладострастной…
Хочешь ехать с Игорем
В этот мир прекрасный?
– Да, – сказала Игорю
Нежная подруга,
– Я огнем любви горю,
Как светило юга![26 - Голиков В. Игорь в Куоккале // Солнце России. 1913. № 19 [170]. Михаил Петров полагает, что речь в стихотворении идет не о вымышленном, а о реальном лице – Анне Воробьевой, отношения поэта с которой были темой окололитературных пересудов (Петров М. Игорь-Северянин. In atrium post mortem. 9 // Русское информационное поле (06.02.2019): http://ruspol.net/ruspol.net/?p=191&news=7349).]
Современники согласно свидетельствуют, иногда с юмором, а иногда не без скрытой зависти, что особым расположением к видному собою и внешне привлекательному поэту отличались его экзальтированные поклонницы.
Дамы были в упоении, они сидели и млели, и таяли от стихов и от голоса поэта, от его внешности, от его тонкой, в рюмочку стянутой талии. Поэт облачен был в ладно сшитый сюртук. Дам пленяло его «вдохновенное» чело, осененное гривой иссиня-черных волос[27 - Зайцев П. Н. Воспоминания. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 203. Мемуарист Петр Никанорович Зайцев, друг и помощник Андрея Белого, литератор и активный участник культурной жизни Москвы 1910?х годов, вспоминает о выступлении Северянина зимой 1913 года на заседании Общества свободной эстетики в доме Востряковых на Большой Дмитровке, организованном Валерием Брюсовым.].
Ф. Ф. Фидлер пересказывает в дневнике слова Корнея Чуковского об одном из «поэзовечеров» Игоря Северянина в 1915 году:
Попасть на этот вечер было труднее, чем на концерт или выступление Шаляпина. Почти исключительно – девицы; при появлении явно подвыпившего поэта они пожирали его такими сладострастно восхищенными взглядами, что «наверное, могли забеременеть от одного созерцания»[28 - Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. статья, сост., пер. с нем. К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 660.].
Бенедикт Лившиц вспоминал о том, как успех Северянина у женщин вызывал ревнивое «нетерпение» Маяковского:
Эта нервная взвинченность не оставляла его и на концерте, превратившемся в турнир между ним и Северянином. Оба читали свои лучшие вещи, стараясь перещеголять друг друга в аудитории, состоявшей сплошь из женщин[29 - Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1978. С. 129. Он же упоминает о двух воздыхательницах, посетивших на его глазах квартиру Северянина на Средней Подьяческой. О ревнивом тщеславии Маяковского и трудно скрываемой зависти к Северянину см.: Масаинов А. Маяковский – поэт и человек (1930) // Русский футуризм. С. 623–624.].
По гендерному принципу Борис Зайцев противопоставлял Игоря Северянина Вячеславу Иванову (хотя они, конечно, и без того разнились слишком многим): если Иванов «был вообще для мужчин», то «Северянин для восторженных бырышень»[30 - Зайцев Б. Вячеслав Иванов // Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М.: РИК «Культура», 1992. С. 332.].
С годами негативных отзывов о поэзии Северянина становится больше. О былой популярности поэта, по слову Кузмина, вспоминается как о «скороспелом признании»[31 - Кузмин М. Брюсов. «То мореплаватель, то плотник» // Кузмин М. Проза и эссеистика: В 3 т. Т. 3. М.: Аграф, 2000. С. 344.]. А сам его творческий путь видится как неуклонная деградация: «выродился из гения в анекдотическую фигуру»[32 - Панова Л. Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма. М.: ВШЭ, 2018. С. 515.].
Причины исключительного успеха Северянина в 1910?е годы, практически сошедшего на нет к началу 1930?х[33 - «Наряду с банальностью и пошлостью в пореволюционных стихах Северянина встречалась иногда приятная старомодная простота, неожиданная у автора „Ананасов в шампанском“. Но тот искрометный напиток, который пленил Сологуба и Брюсова в „Громокипящем кубке“, за эти годы выдохся» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Изд. 2?е. Париж, 1984. С. 159). Ирина Одоевцева вспоминает о словах критика, сотрудника рижской газеты „Сегодня“ Петра Пильского о Северянине 1930?х годов: «Страшное дело для поэта пережить себя, умереть при жизни» (Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. С. 19).], заслуживают обсуждения. Помимо сакраментальных суждений о мимолетности славы здесь, вероятно, уместны аргументы как содержательного, так и социального порядка. Проницательнее многих об обстоятельствах, объясняющих небывалую «моду на Северянина», судила раздражавшая его Мария Моравская уже в 1917 году:
Многие не знают, что такое, в сущности, Игорь Северянин, так как принято его разглядывать с поэтической точки зрения. А поэтическая точка зрения здесь ни при чем, так как этот внешне талантливый стихотворец с умопомрачительно дурным вкусом не мог бы так долго интересовать читателей и критику, если бы не социальное содержание его стихов. <…> Все читатели и почитатели Игоря Северянина, все слушатели его поэзо-концертов (какое романтическое слово!), восторженные курсистки и приказчики, все это – «люди без собственных лимузинов», которые тоскуют по внешней культуре. Они чувствуют, вдыхая стихи Северянина, запах экзотических цветов, запах цветов, которые обычно им приходится видеть лишь за стеклом магазинного окна. Они слышат легкую бальную музыку в этих стихах с банальным ритмом. Они, читая Игоря, входят в нарядные будуары и видят зеркала, в которых им никогда не суждено отразиться <…> Это не смешно, что люди стоят у чужих парадных дверей: это не низменно, что они в мечтах тоскуют по внешней культуре <…> Пастух, мечтающий о принцессе, приказчик из меблирашек, студент из мансарды, грезящий о березовом коттедже, и сам Северянин, воспевающий этот коттедж, их общая тоска – плод социального неравенства. Это очень серьезно и очень значительно. Это сама жизнь – тоска у чужих парадных дверей[34 - Моравская М. Плебейское искусство: Об Игоре Северянине // Северянин И. Царственный паяц. С. 535, 536. Впервые: Журнал журналов. 1917. № 10. Март. С. 7. Об отношении поэта к Моравской можно судить по стихотворению «Поэза о поэтессах» (1916), где он записывает ее – наряду с Анной Ахматовой и Любовью Столицей – в мелочные и безликие «стихотворки» (Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 2. С. 349).].
В объяснении популярности Северянина Моравская делает упор на социальное воображение – мечты о лучшем, манящем и вместе с тем иллюзорном, но ничего не говорит о новизне его поэтического языка. Между тем эта новизна ощущалась тем сильнее, чем сильнее она нарушала традиционные нормативы стихотворного письма и речи. В самом этом нарушении был вызов предшествующей традиции – и идеологической, и собственно языковой. Сегодня такой вызов мог бы быть описан в терминах противостояния коммуникативных компетенций, само существование которых воспринимается небесконфликтно и часто ведет к пересмотру языковых и, в частности, литературных норм и ценностей. То, что представляется непривычным, способно однажды стать общепризнанным в границах той или иной социальной группы[35 - Coleman J. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard UP, 1990. P. 251–252; Becker H. Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. New York; Free Press, 1991. P. 25–40.].
Иначе, но тоже под социологическим углом зрения, о перипетиях в творческой судьбе Северянина пишет Лада Панова. По ее мнению (с опорой на теорию «литературного поля» Пьера Бурдье), Северянин предъявил публике новую модель поведения, эффектного в своей непривычности и своеобразной вседозволенности. Содержательная сторона поэзии в его случае, как и у других поэтов-новаторов, изначально определялась не столько семантикой и формальными новациями, сколько коммуникативной прагматикой: самозванством и саморекламой, демонстративным расчетом на таких единомышленников и почитателей, которые бы подразумеваемо отличались от других социальных групп. Манифесты «эго-футуризма» и «вселенского футуризма» (например, распропагандированное в прессе заявление 1912 года о создании и «скрижалях» «Академии эгопоэзии»)[36 - «Ректориат» Академии, как указывалось здесь же, составили Игорь Северянин, Константин Олимпов (сын К. М. Фофанова), Георгий Иванов, Грааль-Арельский, а в роли предтеч выступали Константин Фофанов и Мирра Лохвицкая (Русский футуризм. Теория. Прагматика. Критика. Воспоминания / Сост. В. Н. Терёхина, А. П. Зименков. М.: Наследие, 1999. С. 130). Об истории написания манифеста: Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Согласие, 1994. С. 28–29.] и публичные выступления самих футуристов скандализировали, но и привлекали внимание, потешали, но и поражали вызывающей экстравагантностью. Северянин, с этой точки зрения, как бы целенаправленно вербовал поклонников, показывая им, что можно писать и выступать, как это делает он сам и его «свита», – «графоманствуя» и вольготно вышучивая правила хрестоматийного стихосложения (Блок, по воспоминаниям Любови Гуревич, увидел в Северянине «нового талантливого капитана Лебядкина» и, если верить Василию Гиппиусу, планировал даже написать статью «Игорь-Северянин и капитан Лебядкин»)[37 - «Вы узнаете его? Ведь это капитан Лебядкин? – шепнул мне Блок. – Новый талантливый капитан Лебядкин» (Гуревич Л. Из воспоминаний о Блоке // Литературное наследство. М.: Наука, 1982. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 845; Гиппиус Вас. Встречи с Блоком // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1980. С. 85.]. Союз с футуристами был недолог и, в конечном счете, закончился демонстративным разрывом: претенциозность Северянина была иной и не столь радикальной, как брутальный эпатаж раннего Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка и Алексея Крученых[38 - В 1915 году Велимир Хлебников каламбурил: «Игорь Усыплянин» (Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 83). Нарочито «заумный» Алексей Крученых недоброжелательно вспомнит о Северянине в стихотворении «Зудуса» (сборник «Голодняк», 1922). Здесь, адресуясь к Музе (Музке), автор предлагает ей отведать его мозг, прожаренный «как шашлык» с перцем «румян и кислот», – в надежде, что он понравится ей «больше чем обрюзгший размазанный Игоря Северянина торт!» (Крученых А. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. СПб.: Академический проект («Новая библиотека поэта. Малая серия»), 2001. С. 141. Пунктуация, т. е. ее отсутствие – автора). См. также: «Северянин был еще напечатан в двух-трех будетлянских книгах, но этим дело и ограничилось. Никакого серьезного союза у нас с этим „дамским мармеладом“ и певцом отдельных кабинетов, конечно, не могло быть. Закончилась эта случайная связь весьма скоро: в 1914 <…> Мы не были связаны с фабрикантами поэз для мещанских девиц» (Крученых А. Е. Наш выход: К истории русского футуризма (1932) // А. Е. Крученых. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы / Вступ. ст., подгот. текста и комм. Н. Гурьяновой. М.: Гилея, 2006. С. 136, 137).].
Благодушно настроенные современники видели эту разницу и раньше:
Существует еще один смехотворный журнал «Эго-футуристов», которых надо строго отличать от «просто футуристов», т. е. от господ Бурлюков. В произведениях эго-футуристов много комического и ребяческого. Но посмотрите. Из этой смехотворной каши выделился один поэт – Игорь Северянин. В нем тоже много еще ребячества и чепушистого задора. <…> Нельзя не улыбнуться, читая эти стихи, особенно когда автор их читает сам нараспев. Но улыбка эта для автора безобидная. Просто весело слушать его пустяки <…> Но на Бурлюков надежды нет никакой. До такой степени пошло и глупо все, что они пишут[39 - Философов Д. В. Смехотворные басни // Речь. 1913. 13 (26 января). № 12. С. 2.].
Как и другие авангардисты, Северянин настойчиво и откровенно утверждал себя в «литературном поле». В воспоминаниях Алексея Масаинова поэт рассуждал об избранной им тактике вполне определенно:
– Конечно, в России мало иметь только талант <…> Если бы я не написал своих дерзких поэз, вы бы у меня здесь не были. Нужно было бить публику по затылку! Ха-ха!.. Вот я и стал писать их… <…> Вот у меня четыре тома газетных вырезок обо мне и почти ни одного хорошего отзыва!.. Но я не протестую. Реклама нужна. Реклама полезна[40 - Масаинов А. Маяковский – поэт и человек (1930) // Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В. Н. Терёхина, А. П. Зименков. СПб.: Полиграф., 2009. С. 620.].
По социальной сути эти притязания были, по (резкому) мнению исследовательницы, «волей к власти», но и «хлестаковщиной чистой воды», «торговлей воздухом», которые в его случае закончились неудачей – прежде всего потому, что поэт был слишком занят собою и «выстраивал свои прагматические стратегии менее изощренно», чем, например, Хлебников, а позже Хармс, умело заигрывавшие не с массовой, но с элитарной литературой[41 - Панова Л. Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма. С. 502–515.].
Вероятно, в этой оценке много справедливого. Северянин, ориентировавшийся прежде всего на массовую аудиторию, утомил ее в конечном счете повторяемостью своего самовлюбленного «я». Выпадению поэта из «литературного поля» способствовали, наконец, и просто внешние факторы: революция, эмиграция в эстонской глуши, бытовые и культурные катастрофы 1920–1930?х годов. Да и сам характер северянинской поэзии с присущими ей эмоциональной восторженностью и политическим безразличием все меньше соответствовал доминирующим настроениям эмигрантской печати:
Одна из причин игнорирования стихов Северянина в пространстве эмиграции заключалась в эмоционально-психологическом несоответствии его поэзии послереволюционного периода сложившемуся в те годы стереотипу. <…> Условия эмиграции сделали русских поэтов двадцатых-тридцатых годов декадентами духа: они эстетизировали мотивы смерти и тлена, хоронили окружающий мир и искусство. А тем временем Игорь Северянин, возлюбивший жизнь наперекор бедствиям, двигался «против течения»[42 - Захариева И. Творчество Игоря Северянина в эмиграции (проблема историко-литературной интерпретации) // Opera Slavica. 2007. Vol. 17. № 1. P. 29, 30.].
При всем при этом сводить значение Северянина только к социальным аспектам его творчества представляется неоправданным упрощением. Северянин никак не может быть назван бессодержательным поэтом и, в отличие от тех же Хлебникова и Хармса, устойчиво связывался в глазах публики с узнаваемым репертуаром поэтических тем и настроений. Понятно, что тематика, литературные приемы у разных авторов всегда были и остаются различными, но художественная идеология – как набор некоторых социально обусловленных представлений, часто неосознанных в этой обусловленности – предстает сравнительно общей и определяющей то, что метафорически можно назвать «лицом литературы». Русская литература второй половины XIX века (по меньшей мере в ее наиболее значимых образцах) донельзя серьезна, а ее «лицо» – строго и уныло одновременно. На этом фоне появление такого поэта, как Северянин, фривольно преданного житейскому легкомыслию и легкословию, экзотическим и экстравагантным соблазнам, необременительным влюбленностям, будничным радостям и обнадеживающему будущему, произвело предсказуемый фурор у читателей, уставших от литературы «больших идей» и «трудных вопросов». Немалую роль в популярности Северянина сыграли и такие внешние факторы, как отмена в 1905 году предварительной цензуры: на смену риторике цензурно допустимых повторений пришла литература, условно говоря, тематической и стилистической вседозволенности. Литература, и поэзия в частности, заговорила на языке социального разнообразия, а не только культурной элиты. Фактически появление Северянина в литературе совпало с зарождением культуры, которую было бы еще неверно назвать массовой, но уже можно счесть альтернативной или даже контркультурой – в ее противопоставленности привычным ценностям культурного обихода. Северянин и стал, в ряду с другими нарушителями «здравого смысла» и «хорошего вкуса» (прежде всего футуристами, с которыми он себя связывал в качестве «эго-футуриста») выразителем и героем провокационно другой культуры. Позднее эстетические вариации культурной инаковости приведут к становлению различных форм социального спроса/предложения – будь то массовая культура или, в противовес ей, авангардная, экспериментальная и модернистская культура – но для 1910?х годов очевиднее противопоставление традиции и новаторства (будь это обновление традиции или ее ниспровержение и радикальное преодоление)[43 - Различие в таком отношении к традиции подчеркнул Александр Бенуа в рецензии на выставку Союза русских художников 1910 года. Бенуа разделил всех участвовавших в ней живописцев на авангард, центр и арьергард, назвав «авангардом» художников (во главе с М. Ларионовым), которые, по его мнению, дальше других зашли в разрушении художественных норм. Себя Бенуа зачислил в центристы (Вакар И. Трубный хор голосов здоровых людей: «Бубновый валет» – история художественного общества с 1910 года // Наше наследие. 2005. № 75/76. С. 132). Схожим образом складываются представления об авангардистах и более умеренных по сравнению с ними модернистах в литературе начала XX века. См., напр.: Руднев В. П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. С. 12–14. Впрочем, иногда оба термина употребляются как взаимозаменимые: Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. 1. С. 9. О понятии «массовая культура»: Руднев В. П. Словарь культуры XX века. С. 155–159.].
Юный Георгий Иванов, познакомившийся с Северянином в 1911 году, вспоминал, как случайно прочитал какие-то стихи в одной из его брошюр и они его «пронзили»:
Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои <…> Но, повторяю, – они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно, – Сологуба[44 - Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 26. Иванов пишет, что это была брошюра «страниц в шестнадцать (названия уже не помню), имевшая сложный подзаголовок: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати, – что-то очень много». Этому описанию всецело соответствует название брошюры Северянина «Колье принцессы. Первая тетрадь третьего тома стихов. Брошюра 27» (СПб.: Тип. И. Флейтмана, 1910. Весна. 16 с. На 3?й сторонке обложки помещено объявление о готовящихся брошюрах с 28 по 32?ю). Отмечу попутно ошибку Иванова в указании номера квартиры Северянина: «жил в квартире № 13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя». Правильный адрес: Средняя Подьяческая, дом 5, кв. 8 (см. письмо Северянина от 26 мая 1911 года в Литературный фонд с обратным указанием адреса: Игорь Северянин. Переписка с Федором Сологубом и Ан. Н. Чеботаревской / Публ. Л. Н. Ивановой и Т. В. Мисникевич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005–2006 годы. СПб., 2009. С. 699). Мемуаристы, побывавшие у Северянина на Подьяческой, согласно отмечают контраст между салонно-будуарной поэзией и более чем скромным жильем поэта.].
Уже признанный литературным авторитетом Федор Сологуб, посодействовавший изданию первой книги поэта «Громокипящий кубок» (1913) и подсказавший ее название, напишет в предисловии:
Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что в них то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, – что мне до этого! <…> Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волею упоенной души поэта. <…> Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его – воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой[45 - Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. С. 8.].
Характерно и коллективное письмо, посланное группой поклонников поэта одному из столичных критиков и опубликованное в газете «Биржевые ведомости» в 1915 году:
Игорь Северянин это – наш поэт, поэт молодежи <…> – великий мечтатель, его поэзия зовет в надзвездные выси, он пробуждает вдохновение, он чарует, он пьянит. Поймите, ведь это – бард современности, это – яркий выразитель настроений эпохи, с ее могучим взлетом, с ее падениями, срывами. И за эту смелость, за которую так нападают на него трезвые «взрослые» люди, за эту смелость мы любим его[46 - Анчар. Молодежь и Игорь Северянин // Биржевые ведомости. 1915. 6 июня. Вечерний вып. С. 3. Цит. по: Крусанов А. Русский авангард. Т. 1. Кн. 2. С. 616.].
Даже в 1922 году в эссе о Северянине, напечатанном в шведско-финском журнале Ultra, Эдит Сёдергран (1892–1923), учившаяся в Санкт-Петербурге и ставшая к концу своей недолгой жизни замечательной поэтессой и классиком скандинавского литературного модернизма, в оценке творчества русского поэта восторженно повторяет те же похвалы, которые расточались поэту на пике его популярности:
Легкомысленность Северянина выходит победителем из любого поединка, паутина его грез слишком воздушна для того, чтобы ее могли повредить тяжелые камни. Он – бабочка, дитя, в нем есть много бессознательной мудрости <…> Его настоящая публика – это молодежь, легкомысленная молодежь, которая не знает зла, которая хочет любить и ласкать, поймать солнечный луч, которая любит жизнь и красоту – ославленную людьми, обделенными привлекательностью. <…> Молодежь, жаждущая жизни, с энтузиазмом подчиняется той завораживающей силе, которую исповедует жизненная реальность Северянина. Он великий носитель радости, оправдывающий сегодня опьянение жизнью в обстоятельствах сильной нужды[47 - Сёдергран Э. Игорь Северянин // Сёдергран Э. Большой сад / Пер. со швед. Н. Г. Озеровой. М.: Арт Волхонка, 2023. С. 385, 386. Сёдергран принадлежат переводы двух стихотворений Северянина на шведский язык («Увертюра» (1915) и «Озеровая баллада» (1910), напечатанные в том же журнале (1922. № 5), и оставшиеся неизданными переводы стихотворений «Тринадцатая» и «Валентина». Она же сыграла ведущую роль в популяризации Северянина в модернистских кругах Финляндии и Швеции: Клапури Т. Сёдергран и Северянин, или Как эгофутуризм пришел в Финляндию // Транснациональное в русской культуре: Сб. статей. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XV / Сост. Г. Обатнин, Т. Хуттунен. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 221–228.].
Преувеличенные восторги Северянином уравновешиваются преувеличенными негодованиями. Каким из них верить и кому? Только ли тем, кому вообще нет дела до поэзии? Идеологическая ревизия отечественной истории и культуры в конце 1980?х – 1990?е годы – на волне «возращения» в читательский обиход многочисленных имен и текстов дореволюционной и эмигрантской литературы – поспособствовала возрождению исследовательского интереса к Северянину, появлению переизданий его произведений и посвященных ему научных и популярных публикаций, напомнивших о прежних оценках его поэтического творчества – и давших жизнь новым, в которых снова нашлось место как панегирикам, так и филиппикам[48 - «То, что могло читаться как ирония, – оказалось вполне серьезным: казавшиеся необычными и своеобразными стихотв/орные/ размеры стали повторяться, неологизмы, строившиеся по уже знакомым словообразовательным моделям, потеряли прелесть новизны <…> Но хуже всего было то, что «душа современного человека», которую пытались увидеть в его стихах, оказалась пустой и ничтожной <…> Еще более очевиден этот упадок стал в послереволюционных сборниках поэта. Постепенно его лирика отказывается от того, что можно было бы расценить как футуристические новации, приходит к „новой простоте“, но за ней еще более явственно обнаруживается внутренняя несамостоятельность Северянина, отсутствие в его творчестве собственно художественного мира, вялость стиха. Пропадают провалы вкуса, но и запоминающиеся стихи исчезают, уровень поэзии становится ровным, но весьма средним, если не ниже среднего» (Богомолов Н. А. Северянин Игорь // Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Глав. ред. и сост. П. А. Николаев. М.: Большая рос. энциклопедия; Рандеву-АМ, 2000. С. 623–624. Негодующий отклик на статью Богомолова: Ахмедова Ю. А. Идиостиль сонетов И.-Северянина из цикла «Медальоны». Орск, 2007. https://www.dissercat.com/content/idiostil-sonetov-i-severyanina-iz-tsikla-medalony: «Российское читающее общество в конце 1980?х гг. с энтузиазмом восприняло публикацию его сочинений, но вскоре отношение к нему стало скептическим, если не пренебрежительным, почти неотличимым от оценок его творчества в советскую эпоху, когда признавалось его мастерство, но порицались мелкотемье и отсутствие вкуса <…> В современной России падает интерес к постмодернистским литературным экспериментам, происходит возвращение к конструктивной, нравственной и гуманистической культуре – так что И.-Северянин подает писателям весьма достойный пример: можно увлекаться формализмом, новаторством, эпатажем, но не изменять высоким ценностям русской литературы»).].
На фоне взлетов и падений в прижизненной и посмертной известности Северянина есть совсем немного стихотворных исключений, которые никогда не становились объектом хулы, но, напротив, служили доказательством несомненного таланта их автора, образцом «настоящей поэзии», если понимать под нею риторическую и метрическую виртуозность, благозвучие и эмоциональную выразительность. Одно из таких стихотворений – «В парке плакала девочка», написанное в 1910 году и в следующем году опубликованное в малотиражной 24-страничной брошюре поэта «Электрические стихи»[49 - Игорь-Северянин. Электрические стихи. Четвертая тетрадь третьего тома стихов. Брошюра тридцатая. СПб.: Предвешняя зима (Тип. И. Флейтмана), 1911.], – стало известным широкому читателю в составе первого большого собрания стихотворений Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913), выдержавшего только за первые два года семь изданий (в 1918 году их будет уже десять)[50 - Сборник увидел свет 4 марта 1913 года (тиражом 1200 экз.) и был переиздан уже 26 августа того же года (тиражом 1500 экз.). Издания с 1?го по 7?е вышли в издательстве «Гриф», с 8?го по 10?е – в издательстве В. В. Пашуканиса. Издание 1913 года выделяется типографическим изяществом и отличается от последующих переизданий в «Грифе». Оно напечатано на более плотной бумаге, больше по размеру и по количеству страниц (25 ? 19 см, 141 с., 2–8?е изд. – типографически стереотипны: 21,5 ? 15,5 см, 126 с.), а главное: каждое стихотворение в нем начинается с новой страницы, в последующих изданиях стихотворения следуют в подбор (вероятной причиной этому была экономия бумаги). Цена всех изданий «Грифа» одинакова – 1 рубль. Для Серебряного века русской поэзии число переизданий и суммарный тираж «Громокипящего кубка» явились абсолютным рекордом. В Литературном музее в Тарту хранится записка Игоря-Северянина «История книги» (фонд 216) с подсчетом тиража в 34 348 экземпляров (Петров М. Северянин. Полное собрание сочинений в одном томе / Сост., автор коммент. и примеч. М. Петров. М.: Альфа-книга, 2014. С. 1240. Составитель этого издания поправляет поэта, указывая, что общий тираж его сборника составил 31 тысячу экземпляров).].
В парке плакала девочка: «посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости[51 - Северянин И. Громокипящий кубок. С. 31. Во всех прижизненных изданиях Северянина прямая речь девочки вводится в текст со строчной буквы. В новых изданиях (в том числе в издании: Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 1. С. 67) – с прописной, что соответствует правилам современной орфографии. В «авторукописи» «Громокипящего кубка», сделанной Северянином в 1935 году, строчная буква также сменяется прописной (см. фототипическое воспроизведение в: Терёхина В. Н., Шубникова-Гусева Н. И. «За струнной изгородью лиры…» С. 480). Можно гадать, насколько эти мелочи были важны для самого автора (сохранившего в тексте 1935 года старорежимные ять – ?, десятеричное i, и конечные ер – ъ). А. А. Реформатский, один из немногих, кто писал о грамматической роли строчных и прописных букв в дореволюционной орфографии, отмечал, что «употребление прописных букв – наименее регламентированный участок орфографической практики, где не только школа расходилась и расходится с печатью, но где буквально каждый может вводить свои правила или отменять обычай. Эта „легкость обращения“ с прописными буквами объясняется в основном тем, что в противовес основной массе орфографических вопросов данные правила не имеют никакого отношения ни к фонетике, ни к морфологии». Вместе с тем, он же отмечал грамматические нюансы в их употреблении при цитировании и передаче прямой речи: «Цитата должна начинаться с прописной буквы лишь в случае, когда она взята с начала фразы и является синтаксически замкнутой, т. е. вводной в данном тексте; если же цитата является членом простого или сложного предложения данного текста, она должна писаться со строчной буквы» (Реформатский А. А. Лингвистические принципы написания прописной и строчной букв. (Из цикла «Упорядочение русского правописания») / Публ. Е. А. Ивановой // Русский язык. 2003. № 16 (304). – https://rus.1sept.ru/article.php?ID=2003016). Не приходится говорить и о том, что само стихотворение печатается и прочитывается сегодня вопреки его первоначальному орфографическому оформлению: «Въ парк? плакала д?вочка: „посмотри-ка ты, папочка, / У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, – / Я возьму птицу б?дную и въ платочекъ укутаю"… / И отецъ призадумался, потрясенный минутою, / И простиль вс? грядущiе и капризы, и шалости / Милой маленькой дочери, зарыдавшей отъ жалости».].
Издание брошюры 1911 года, впрочем, также не прошло незамеченным. «Электрические стихи» были тридцатой по счету брошюрой поэта (из 35 изданных к 1913 году) – и самой представительной по числу включенных в нее стихотворений. Из подзаголовка к названию здесь же сообщалось, что это «четвертая тетрадь третьего тома стихов», то есть только часть куда более представительного собрания поэтических произведений (на последней странице обложки был помещен анонс планируемого трехтомника). Авторская самореклама проявлялась и в указании на дату самого издания: «Предвешняя зима» (напоминавшая, впрочем, о столь же календарно-поэтической датировке лирических книг Константина Бальмонта: «В безбрежности. 1895. Зима», «Будем как Солнце. 1902. Весна»). Типографской новинкой было и то, что имя автора, а точнее очевидный псевдоним, было напечатано в виде воспроизведения личной росписи – идеограммы, связывающей дефисом сравнительно распространенное имя с озадачивающим топонимом. Издание вышло с посвящением «Тринадцатой», туманно подсказывавшим читателю порядковые номера в «донжуанском списке» поэта[52 - Включенная в сборник «новелла» «Тринадцатая» представляла этот список в терминах коммунального расселения: «У меня дворец двенадцатиэтажный, / У меня принцесса в каждом этаже». Тринадцатый этаж – этаж вымышленный, заставляющей грезить о встрече с «вечно-безымянной, странно так желанной, / Той, кого не знаю и узнать не рад» (Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. С. 495, 496). Позднее Северянин переадресует посвящение «Тринадцатой» М. В. Волнянской (в девичестве Домбровской), с которой он познакомился в 1915 году и которая станет его гражданской женой (Терёхина В. Н., Шубникова-Гусева Н. И. «За струнной изгородью лиры». С. 246–249). В примечании к брошюре «Электрические стихи» те же авторы с курьезным педантизмом отмечают: «адресат не установлен» (Северянин И. Громокипящий кубок. С. 823).].
Обложка сборника Игоря Северянина «Электрические стихи» (1911); Вторая страница обложки сборника «Электрические стихи» (1911) с посвящением «Тринадцатой»
Первая публикация стихотворения «В парке плакала девочка…» в сборнике «Электрические стихи» (1911)
Стихотворение «В парке плакала девочка…» – пятнадцатое из тридцати трех включенных Северянином в брошюру. Содержательно и стилистически оно контрастирует с окружающими его произведениями. Остается гадать, насколько этот эффект был принципиален для самого поэта, поместившего незамысловатый рассказ о плачущей девочке между манерным «этюдом» «В предгрозье» о свидании тет-а-тет княжны с «улыбкою грёзэрки», графа и влюбленного в княжну лирического героя и страстной ламентацией, призывающей некую Грасильду, распевающую на закате «свои псалмы», «захлестнуть» грустящее сердце поэта «симфонией слепой». Но и другие стихотворения сборника выразительны разнообразием и в целом неожиданным соседством[53 - Валентина Белова, увидевшая в тридцатой брошюре Северянина «циклическое художественное единство», позволяющее говорить «о важных изменениях „облика“ северянинской музы», отмечает вместе с тем, что характерные для поэта «сюжетные зарисовки из жизни полуреальных, полувымышленных обитателей светских гостиных <…> здесь разбавляются, перебиваются совершенно чужеродными „вставками“, отзвуками других поэтик». «По-детски трогательное, сентиментальное „В парке плакала девочка…“ – одна из таких „вставок“» (Белова В. Я. Лирическая книга Игоря Северянина: Динамика жанра в свете творческой эволюции поэта. Дис. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 2014. С. 85, 86).]. Откликнувшиеся на сборник критики увидели в нем по преимуществу эксцентричные и комичные несуразности.
Владимир Нарбут: В настоящей худощавой книжке можно обрести такие перлы, как: «сосны – идеалы равноправий», «мухомор – объект насмешки и умор» <…> Северянин, если хотите, – недюжинный юморист: «О, поверни (?) на речку глазы / (Я не хочу сказать глаза)»[54 - Нарбут В. И. Северянин. «Электрические стихи» // Gaudeamus. 1911. № 7. С. 12.].
Виктор Ховин: Все, начиная с названия, продолжая датой – «предвешняя зима» <…> и посвящением («тринадцатой») и кончая самими стихотворениями, – есть самое безнадежное ломанье и рисовка, все бьет на эффект, но, конечно, крайне неудачно. Впрочем, книга может иметь успех в качестве «книги невольных пародий», но трудно предположить, чтобы о таком именно успехе мечтал автор[55 - Ховин В. Игорь Северянин. Электрические стихи // Светлый луч. 1911. № 5.].
Суровой нетерпимостью отличался отзыв Г. А. Вяткина в томской газете «Сибирская жизнь». Брошюре Северянина автор посвятил фельетон «„Электрическая“ литература», герои которого, работники редакции, сначала с опаской открывают присланную им бандеролью книжку («что если каждое стихотворение заряжено пятьюстами вольт. Ведь стоит только прикоснуться – и будешь убит наповал»), а прочитав ее,
все едва не лопнули со смеха, критик тоже не выдержал, швырнул книгу на стол и раздраженно заговорил: «Я сейчас же сяду писать ругательную статью… не об Игоре Северянине, несчастном авторе „Электрических стихов“, а вообще о таких, как он, которые коверкают язык, грязнят и уродуют литературу, плодят таких сумасшедших, как они сами». Критик, однако статьи не написал. Сотрудники сообща решили, что писать о книге не стоит, а нужно лишь послать автору извещение о том, что в местной психиатрической лечебнице прием больных продолжается[56 - Вяткин Г. А. Электрическая литература // Сибирская жизнь. 1911. № 101. 7 мая. Цит. по: Карташова Т. П. «Дуновение декаданса», или Томская литературная критика начала XX в. о новейших литературных течениях // Читатель и читательские практики Томска и Томской губернии (конец XIX – начало XX в.) / И. А. Айзикова [и др.]. Томск: ТГУ, 2020. С. 261–262. Автор статьи поясняет, что «фельетон имел совершенно локальный конкретно-исторический контекст. В 1908 году в г. Томске была открыта первая в Сибири психиатрическая больница» (С. 262). Позднее отношение к поэтам-футуристам как душевнобольным не исключает буквального, диагностического смысла. Лишним поводом к этому стало самоубийство И. В. Игнатьева в 1914 году. Среди газетных откликов на него – пересказ лекции доктора медицины Е. П. Радина «Футуризм и безумие» с подытоживающим ее выводом: «Футуристы в большинстве несчастные люди <…> Лекция доктора Радина и гибель несчастного, увлекавшегося „футуризмом“, – дают совсем новые основы для правильного суждения о футуристах» (Петербургская газета. 1914. № 22). Из сегодняшнего дня такие обвинения и показная «девиантность» авангардистов выглядят сознательной установкой на эпатаж как характерную черту их литературной и художественной программы (Даниэль С. Авангард и девиантное поведение // Авангардное поведение / Ред. В. Сажин. СПб.: Открытое общество, 1998. С. 39–46).].
Северянин усердно собирал отзывы на свои стихотворения, но одного отзыва он точно не узнал. Вышедшие из печати «Электрические стихи» вместе еще с четырьмя брошюрами поэт приложил в 1911 году к прошению в Литературный фонд о выдаче ему единовременного пособия в размере 50 рублей. Официально в прошении было отказано «за малыми правами», а в документах, предназначенных для внутреннего пользования, пояснялось: «Председатель запросил труды. Ввиду полной бездарности, по отзыву Я. Я. Гуревича, отклонить»[57 - РО ИРЛИ. Ф. 155. Цит. по: Игорь Северянин. Переписка с Федором Сологубом и Ан. Н. Чеботаревской / Публ. Л. Н. Ивановой и Т. В. Мисникевич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005–2006 годы. СПб., 2009. С. 700. Я. Я. Гуревич (1869–1942) – писатель и педагог, член комитета Литфонда.].
Розовый от страсти.
И сказал: – Красавица,
Разлучившись с светом,
Хочешь позабавиться
Ласками с поэтом?
<…>
От восторгов выгорим
В неге сладострастной…
Хочешь ехать с Игорем
В этот мир прекрасный?
– Да, – сказала Игорю
Нежная подруга,
– Я огнем любви горю,
Как светило юга![26 - Голиков В. Игорь в Куоккале // Солнце России. 1913. № 19 [170]. Михаил Петров полагает, что речь в стихотворении идет не о вымышленном, а о реальном лице – Анне Воробьевой, отношения поэта с которой были темой окололитературных пересудов (Петров М. Игорь-Северянин. In atrium post mortem. 9 // Русское информационное поле (06.02.2019): http://ruspol.net/ruspol.net/?p=191&news=7349).]
Современники согласно свидетельствуют, иногда с юмором, а иногда не без скрытой зависти, что особым расположением к видному собою и внешне привлекательному поэту отличались его экзальтированные поклонницы.
Дамы были в упоении, они сидели и млели, и таяли от стихов и от голоса поэта, от его внешности, от его тонкой, в рюмочку стянутой талии. Поэт облачен был в ладно сшитый сюртук. Дам пленяло его «вдохновенное» чело, осененное гривой иссиня-черных волос[27 - Зайцев П. Н. Воспоминания. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 203. Мемуарист Петр Никанорович Зайцев, друг и помощник Андрея Белого, литератор и активный участник культурной жизни Москвы 1910?х годов, вспоминает о выступлении Северянина зимой 1913 года на заседании Общества свободной эстетики в доме Востряковых на Большой Дмитровке, организованном Валерием Брюсовым.].
Ф. Ф. Фидлер пересказывает в дневнике слова Корнея Чуковского об одном из «поэзовечеров» Игоря Северянина в 1915 году:
Попасть на этот вечер было труднее, чем на концерт или выступление Шаляпина. Почти исключительно – девицы; при появлении явно подвыпившего поэта они пожирали его такими сладострастно восхищенными взглядами, что «наверное, могли забеременеть от одного созерцания»[28 - Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. статья, сост., пер. с нем. К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 660.].
Бенедикт Лившиц вспоминал о том, как успех Северянина у женщин вызывал ревнивое «нетерпение» Маяковского:
Эта нервная взвинченность не оставляла его и на концерте, превратившемся в турнир между ним и Северянином. Оба читали свои лучшие вещи, стараясь перещеголять друг друга в аудитории, состоявшей сплошь из женщин[29 - Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1978. С. 129. Он же упоминает о двух воздыхательницах, посетивших на его глазах квартиру Северянина на Средней Подьяческой. О ревнивом тщеславии Маяковского и трудно скрываемой зависти к Северянину см.: Масаинов А. Маяковский – поэт и человек (1930) // Русский футуризм. С. 623–624.].
По гендерному принципу Борис Зайцев противопоставлял Игоря Северянина Вячеславу Иванову (хотя они, конечно, и без того разнились слишком многим): если Иванов «был вообще для мужчин», то «Северянин для восторженных бырышень»[30 - Зайцев Б. Вячеслав Иванов // Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М.: РИК «Культура», 1992. С. 332.].
С годами негативных отзывов о поэзии Северянина становится больше. О былой популярности поэта, по слову Кузмина, вспоминается как о «скороспелом признании»[31 - Кузмин М. Брюсов. «То мореплаватель, то плотник» // Кузмин М. Проза и эссеистика: В 3 т. Т. 3. М.: Аграф, 2000. С. 344.]. А сам его творческий путь видится как неуклонная деградация: «выродился из гения в анекдотическую фигуру»[32 - Панова Л. Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма. М.: ВШЭ, 2018. С. 515.].
Причины исключительного успеха Северянина в 1910?е годы, практически сошедшего на нет к началу 1930?х[33 - «Наряду с банальностью и пошлостью в пореволюционных стихах Северянина встречалась иногда приятная старомодная простота, неожиданная у автора „Ананасов в шампанском“. Но тот искрометный напиток, который пленил Сологуба и Брюсова в „Громокипящем кубке“, за эти годы выдохся» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Изд. 2?е. Париж, 1984. С. 159). Ирина Одоевцева вспоминает о словах критика, сотрудника рижской газеты „Сегодня“ Петра Пильского о Северянине 1930?х годов: «Страшное дело для поэта пережить себя, умереть при жизни» (Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. С. 19).], заслуживают обсуждения. Помимо сакраментальных суждений о мимолетности славы здесь, вероятно, уместны аргументы как содержательного, так и социального порядка. Проницательнее многих об обстоятельствах, объясняющих небывалую «моду на Северянина», судила раздражавшая его Мария Моравская уже в 1917 году:
Многие не знают, что такое, в сущности, Игорь Северянин, так как принято его разглядывать с поэтической точки зрения. А поэтическая точка зрения здесь ни при чем, так как этот внешне талантливый стихотворец с умопомрачительно дурным вкусом не мог бы так долго интересовать читателей и критику, если бы не социальное содержание его стихов. <…> Все читатели и почитатели Игоря Северянина, все слушатели его поэзо-концертов (какое романтическое слово!), восторженные курсистки и приказчики, все это – «люди без собственных лимузинов», которые тоскуют по внешней культуре. Они чувствуют, вдыхая стихи Северянина, запах экзотических цветов, запах цветов, которые обычно им приходится видеть лишь за стеклом магазинного окна. Они слышат легкую бальную музыку в этих стихах с банальным ритмом. Они, читая Игоря, входят в нарядные будуары и видят зеркала, в которых им никогда не суждено отразиться <…> Это не смешно, что люди стоят у чужих парадных дверей: это не низменно, что они в мечтах тоскуют по внешней культуре <…> Пастух, мечтающий о принцессе, приказчик из меблирашек, студент из мансарды, грезящий о березовом коттедже, и сам Северянин, воспевающий этот коттедж, их общая тоска – плод социального неравенства. Это очень серьезно и очень значительно. Это сама жизнь – тоска у чужих парадных дверей[34 - Моравская М. Плебейское искусство: Об Игоре Северянине // Северянин И. Царственный паяц. С. 535, 536. Впервые: Журнал журналов. 1917. № 10. Март. С. 7. Об отношении поэта к Моравской можно судить по стихотворению «Поэза о поэтессах» (1916), где он записывает ее – наряду с Анной Ахматовой и Любовью Столицей – в мелочные и безликие «стихотворки» (Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 2. С. 349).].
В объяснении популярности Северянина Моравская делает упор на социальное воображение – мечты о лучшем, манящем и вместе с тем иллюзорном, но ничего не говорит о новизне его поэтического языка. Между тем эта новизна ощущалась тем сильнее, чем сильнее она нарушала традиционные нормативы стихотворного письма и речи. В самом этом нарушении был вызов предшествующей традиции – и идеологической, и собственно языковой. Сегодня такой вызов мог бы быть описан в терминах противостояния коммуникативных компетенций, само существование которых воспринимается небесконфликтно и часто ведет к пересмотру языковых и, в частности, литературных норм и ценностей. То, что представляется непривычным, способно однажды стать общепризнанным в границах той или иной социальной группы[35 - Coleman J. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard UP, 1990. P. 251–252; Becker H. Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. New York; Free Press, 1991. P. 25–40.].
Иначе, но тоже под социологическим углом зрения, о перипетиях в творческой судьбе Северянина пишет Лада Панова. По ее мнению (с опорой на теорию «литературного поля» Пьера Бурдье), Северянин предъявил публике новую модель поведения, эффектного в своей непривычности и своеобразной вседозволенности. Содержательная сторона поэзии в его случае, как и у других поэтов-новаторов, изначально определялась не столько семантикой и формальными новациями, сколько коммуникативной прагматикой: самозванством и саморекламой, демонстративным расчетом на таких единомышленников и почитателей, которые бы подразумеваемо отличались от других социальных групп. Манифесты «эго-футуризма» и «вселенского футуризма» (например, распропагандированное в прессе заявление 1912 года о создании и «скрижалях» «Академии эгопоэзии»)[36 - «Ректориат» Академии, как указывалось здесь же, составили Игорь Северянин, Константин Олимпов (сын К. М. Фофанова), Георгий Иванов, Грааль-Арельский, а в роли предтеч выступали Константин Фофанов и Мирра Лохвицкая (Русский футуризм. Теория. Прагматика. Критика. Воспоминания / Сост. В. Н. Терёхина, А. П. Зименков. М.: Наследие, 1999. С. 130). Об истории написания манифеста: Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Согласие, 1994. С. 28–29.] и публичные выступления самих футуристов скандализировали, но и привлекали внимание, потешали, но и поражали вызывающей экстравагантностью. Северянин, с этой точки зрения, как бы целенаправленно вербовал поклонников, показывая им, что можно писать и выступать, как это делает он сам и его «свита», – «графоманствуя» и вольготно вышучивая правила хрестоматийного стихосложения (Блок, по воспоминаниям Любови Гуревич, увидел в Северянине «нового талантливого капитана Лебядкина» и, если верить Василию Гиппиусу, планировал даже написать статью «Игорь-Северянин и капитан Лебядкин»)[37 - «Вы узнаете его? Ведь это капитан Лебядкин? – шепнул мне Блок. – Новый талантливый капитан Лебядкин» (Гуревич Л. Из воспоминаний о Блоке // Литературное наследство. М.: Наука, 1982. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 845; Гиппиус Вас. Встречи с Блоком // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1980. С. 85.]. Союз с футуристами был недолог и, в конечном счете, закончился демонстративным разрывом: претенциозность Северянина была иной и не столь радикальной, как брутальный эпатаж раннего Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка и Алексея Крученых[38 - В 1915 году Велимир Хлебников каламбурил: «Игорь Усыплянин» (Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. Кн. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 83). Нарочито «заумный» Алексей Крученых недоброжелательно вспомнит о Северянине в стихотворении «Зудуса» (сборник «Голодняк», 1922). Здесь, адресуясь к Музе (Музке), автор предлагает ей отведать его мозг, прожаренный «как шашлык» с перцем «румян и кислот», – в надежде, что он понравится ей «больше чем обрюзгший размазанный Игоря Северянина торт!» (Крученых А. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. СПб.: Академический проект («Новая библиотека поэта. Малая серия»), 2001. С. 141. Пунктуация, т. е. ее отсутствие – автора). См. также: «Северянин был еще напечатан в двух-трех будетлянских книгах, но этим дело и ограничилось. Никакого серьезного союза у нас с этим „дамским мармеладом“ и певцом отдельных кабинетов, конечно, не могло быть. Закончилась эта случайная связь весьма скоро: в 1914 <…> Мы не были связаны с фабрикантами поэз для мещанских девиц» (Крученых А. Е. Наш выход: К истории русского футуризма (1932) // А. Е. Крученых. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы / Вступ. ст., подгот. текста и комм. Н. Гурьяновой. М.: Гилея, 2006. С. 136, 137).].
Благодушно настроенные современники видели эту разницу и раньше:
Существует еще один смехотворный журнал «Эго-футуристов», которых надо строго отличать от «просто футуристов», т. е. от господ Бурлюков. В произведениях эго-футуристов много комического и ребяческого. Но посмотрите. Из этой смехотворной каши выделился один поэт – Игорь Северянин. В нем тоже много еще ребячества и чепушистого задора. <…> Нельзя не улыбнуться, читая эти стихи, особенно когда автор их читает сам нараспев. Но улыбка эта для автора безобидная. Просто весело слушать его пустяки <…> Но на Бурлюков надежды нет никакой. До такой степени пошло и глупо все, что они пишут[39 - Философов Д. В. Смехотворные басни // Речь. 1913. 13 (26 января). № 12. С. 2.].
Как и другие авангардисты, Северянин настойчиво и откровенно утверждал себя в «литературном поле». В воспоминаниях Алексея Масаинова поэт рассуждал об избранной им тактике вполне определенно:
– Конечно, в России мало иметь только талант <…> Если бы я не написал своих дерзких поэз, вы бы у меня здесь не были. Нужно было бить публику по затылку! Ха-ха!.. Вот я и стал писать их… <…> Вот у меня четыре тома газетных вырезок обо мне и почти ни одного хорошего отзыва!.. Но я не протестую. Реклама нужна. Реклама полезна[40 - Масаинов А. Маяковский – поэт и человек (1930) // Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В. Н. Терёхина, А. П. Зименков. СПб.: Полиграф., 2009. С. 620.].
По социальной сути эти притязания были, по (резкому) мнению исследовательницы, «волей к власти», но и «хлестаковщиной чистой воды», «торговлей воздухом», которые в его случае закончились неудачей – прежде всего потому, что поэт был слишком занят собою и «выстраивал свои прагматические стратегии менее изощренно», чем, например, Хлебников, а позже Хармс, умело заигрывавшие не с массовой, но с элитарной литературой[41 - Панова Л. Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма. С. 502–515.].
Вероятно, в этой оценке много справедливого. Северянин, ориентировавшийся прежде всего на массовую аудиторию, утомил ее в конечном счете повторяемостью своего самовлюбленного «я». Выпадению поэта из «литературного поля» способствовали, наконец, и просто внешние факторы: революция, эмиграция в эстонской глуши, бытовые и культурные катастрофы 1920–1930?х годов. Да и сам характер северянинской поэзии с присущими ей эмоциональной восторженностью и политическим безразличием все меньше соответствовал доминирующим настроениям эмигрантской печати:
Одна из причин игнорирования стихов Северянина в пространстве эмиграции заключалась в эмоционально-психологическом несоответствии его поэзии послереволюционного периода сложившемуся в те годы стереотипу. <…> Условия эмиграции сделали русских поэтов двадцатых-тридцатых годов декадентами духа: они эстетизировали мотивы смерти и тлена, хоронили окружающий мир и искусство. А тем временем Игорь Северянин, возлюбивший жизнь наперекор бедствиям, двигался «против течения»[42 - Захариева И. Творчество Игоря Северянина в эмиграции (проблема историко-литературной интерпретации) // Opera Slavica. 2007. Vol. 17. № 1. P. 29, 30.].
При всем при этом сводить значение Северянина только к социальным аспектам его творчества представляется неоправданным упрощением. Северянин никак не может быть назван бессодержательным поэтом и, в отличие от тех же Хлебникова и Хармса, устойчиво связывался в глазах публики с узнаваемым репертуаром поэтических тем и настроений. Понятно, что тематика, литературные приемы у разных авторов всегда были и остаются различными, но художественная идеология – как набор некоторых социально обусловленных представлений, часто неосознанных в этой обусловленности – предстает сравнительно общей и определяющей то, что метафорически можно назвать «лицом литературы». Русская литература второй половины XIX века (по меньшей мере в ее наиболее значимых образцах) донельзя серьезна, а ее «лицо» – строго и уныло одновременно. На этом фоне появление такого поэта, как Северянин, фривольно преданного житейскому легкомыслию и легкословию, экзотическим и экстравагантным соблазнам, необременительным влюбленностям, будничным радостям и обнадеживающему будущему, произвело предсказуемый фурор у читателей, уставших от литературы «больших идей» и «трудных вопросов». Немалую роль в популярности Северянина сыграли и такие внешние факторы, как отмена в 1905 году предварительной цензуры: на смену риторике цензурно допустимых повторений пришла литература, условно говоря, тематической и стилистической вседозволенности. Литература, и поэзия в частности, заговорила на языке социального разнообразия, а не только культурной элиты. Фактически появление Северянина в литературе совпало с зарождением культуры, которую было бы еще неверно назвать массовой, но уже можно счесть альтернативной или даже контркультурой – в ее противопоставленности привычным ценностям культурного обихода. Северянин и стал, в ряду с другими нарушителями «здравого смысла» и «хорошего вкуса» (прежде всего футуристами, с которыми он себя связывал в качестве «эго-футуриста») выразителем и героем провокационно другой культуры. Позднее эстетические вариации культурной инаковости приведут к становлению различных форм социального спроса/предложения – будь то массовая культура или, в противовес ей, авангардная, экспериментальная и модернистская культура – но для 1910?х годов очевиднее противопоставление традиции и новаторства (будь это обновление традиции или ее ниспровержение и радикальное преодоление)[43 - Различие в таком отношении к традиции подчеркнул Александр Бенуа в рецензии на выставку Союза русских художников 1910 года. Бенуа разделил всех участвовавших в ней живописцев на авангард, центр и арьергард, назвав «авангардом» художников (во главе с М. Ларионовым), которые, по его мнению, дальше других зашли в разрушении художественных норм. Себя Бенуа зачислил в центристы (Вакар И. Трубный хор голосов здоровых людей: «Бубновый валет» – история художественного общества с 1910 года // Наше наследие. 2005. № 75/76. С. 132). Схожим образом складываются представления об авангардистах и более умеренных по сравнению с ними модернистах в литературе начала XX века. См., напр.: Руднев В. П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. С. 12–14. Впрочем, иногда оба термина употребляются как взаимозаменимые: Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. 1. С. 9. О понятии «массовая культура»: Руднев В. П. Словарь культуры XX века. С. 155–159.].
Юный Георгий Иванов, познакомившийся с Северянином в 1911 году, вспоминал, как случайно прочитал какие-то стихи в одной из его брошюр и они его «пронзили»:
Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои <…> Но, повторяю, – они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно, – Сологуба[44 - Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 26. Иванов пишет, что это была брошюра «страниц в шестнадцать (названия уже не помню), имевшая сложный подзаголовок: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати, – что-то очень много». Этому описанию всецело соответствует название брошюры Северянина «Колье принцессы. Первая тетрадь третьего тома стихов. Брошюра 27» (СПб.: Тип. И. Флейтмана, 1910. Весна. 16 с. На 3?й сторонке обложки помещено объявление о готовящихся брошюрах с 28 по 32?ю). Отмечу попутно ошибку Иванова в указании номера квартиры Северянина: «жил в квартире № 13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя». Правильный адрес: Средняя Подьяческая, дом 5, кв. 8 (см. письмо Северянина от 26 мая 1911 года в Литературный фонд с обратным указанием адреса: Игорь Северянин. Переписка с Федором Сологубом и Ан. Н. Чеботаревской / Публ. Л. Н. Ивановой и Т. В. Мисникевич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005–2006 годы. СПб., 2009. С. 699). Мемуаристы, побывавшие у Северянина на Подьяческой, согласно отмечают контраст между салонно-будуарной поэзией и более чем скромным жильем поэта.].
Уже признанный литературным авторитетом Федор Сологуб, посодействовавший изданию первой книги поэта «Громокипящий кубок» (1913) и подсказавший ее название, напишет в предисловии:
Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что в них то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, – что мне до этого! <…> Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волею упоенной души поэта. <…> Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его – воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой[45 - Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. С. 8.].
Характерно и коллективное письмо, посланное группой поклонников поэта одному из столичных критиков и опубликованное в газете «Биржевые ведомости» в 1915 году:
Игорь Северянин это – наш поэт, поэт молодежи <…> – великий мечтатель, его поэзия зовет в надзвездные выси, он пробуждает вдохновение, он чарует, он пьянит. Поймите, ведь это – бард современности, это – яркий выразитель настроений эпохи, с ее могучим взлетом, с ее падениями, срывами. И за эту смелость, за которую так нападают на него трезвые «взрослые» люди, за эту смелость мы любим его[46 - Анчар. Молодежь и Игорь Северянин // Биржевые ведомости. 1915. 6 июня. Вечерний вып. С. 3. Цит. по: Крусанов А. Русский авангард. Т. 1. Кн. 2. С. 616.].
Даже в 1922 году в эссе о Северянине, напечатанном в шведско-финском журнале Ultra, Эдит Сёдергран (1892–1923), учившаяся в Санкт-Петербурге и ставшая к концу своей недолгой жизни замечательной поэтессой и классиком скандинавского литературного модернизма, в оценке творчества русского поэта восторженно повторяет те же похвалы, которые расточались поэту на пике его популярности:
Легкомысленность Северянина выходит победителем из любого поединка, паутина его грез слишком воздушна для того, чтобы ее могли повредить тяжелые камни. Он – бабочка, дитя, в нем есть много бессознательной мудрости <…> Его настоящая публика – это молодежь, легкомысленная молодежь, которая не знает зла, которая хочет любить и ласкать, поймать солнечный луч, которая любит жизнь и красоту – ославленную людьми, обделенными привлекательностью. <…> Молодежь, жаждущая жизни, с энтузиазмом подчиняется той завораживающей силе, которую исповедует жизненная реальность Северянина. Он великий носитель радости, оправдывающий сегодня опьянение жизнью в обстоятельствах сильной нужды[47 - Сёдергран Э. Игорь Северянин // Сёдергран Э. Большой сад / Пер. со швед. Н. Г. Озеровой. М.: Арт Волхонка, 2023. С. 385, 386. Сёдергран принадлежат переводы двух стихотворений Северянина на шведский язык («Увертюра» (1915) и «Озеровая баллада» (1910), напечатанные в том же журнале (1922. № 5), и оставшиеся неизданными переводы стихотворений «Тринадцатая» и «Валентина». Она же сыграла ведущую роль в популяризации Северянина в модернистских кругах Финляндии и Швеции: Клапури Т. Сёдергран и Северянин, или Как эгофутуризм пришел в Финляндию // Транснациональное в русской культуре: Сб. статей. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XV / Сост. Г. Обатнин, Т. Хуттунен. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 221–228.].
Преувеличенные восторги Северянином уравновешиваются преувеличенными негодованиями. Каким из них верить и кому? Только ли тем, кому вообще нет дела до поэзии? Идеологическая ревизия отечественной истории и культуры в конце 1980?х – 1990?е годы – на волне «возращения» в читательский обиход многочисленных имен и текстов дореволюционной и эмигрантской литературы – поспособствовала возрождению исследовательского интереса к Северянину, появлению переизданий его произведений и посвященных ему научных и популярных публикаций, напомнивших о прежних оценках его поэтического творчества – и давших жизнь новым, в которых снова нашлось место как панегирикам, так и филиппикам[48 - «То, что могло читаться как ирония, – оказалось вполне серьезным: казавшиеся необычными и своеобразными стихотв/орные/ размеры стали повторяться, неологизмы, строившиеся по уже знакомым словообразовательным моделям, потеряли прелесть новизны <…> Но хуже всего было то, что «душа современного человека», которую пытались увидеть в его стихах, оказалась пустой и ничтожной <…> Еще более очевиден этот упадок стал в послереволюционных сборниках поэта. Постепенно его лирика отказывается от того, что можно было бы расценить как футуристические новации, приходит к „новой простоте“, но за ней еще более явственно обнаруживается внутренняя несамостоятельность Северянина, отсутствие в его творчестве собственно художественного мира, вялость стиха. Пропадают провалы вкуса, но и запоминающиеся стихи исчезают, уровень поэзии становится ровным, но весьма средним, если не ниже среднего» (Богомолов Н. А. Северянин Игорь // Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Глав. ред. и сост. П. А. Николаев. М.: Большая рос. энциклопедия; Рандеву-АМ, 2000. С. 623–624. Негодующий отклик на статью Богомолова: Ахмедова Ю. А. Идиостиль сонетов И.-Северянина из цикла «Медальоны». Орск, 2007. https://www.dissercat.com/content/idiostil-sonetov-i-severyanina-iz-tsikla-medalony: «Российское читающее общество в конце 1980?х гг. с энтузиазмом восприняло публикацию его сочинений, но вскоре отношение к нему стало скептическим, если не пренебрежительным, почти неотличимым от оценок его творчества в советскую эпоху, когда признавалось его мастерство, но порицались мелкотемье и отсутствие вкуса <…> В современной России падает интерес к постмодернистским литературным экспериментам, происходит возвращение к конструктивной, нравственной и гуманистической культуре – так что И.-Северянин подает писателям весьма достойный пример: можно увлекаться формализмом, новаторством, эпатажем, но не изменять высоким ценностям русской литературы»).].
На фоне взлетов и падений в прижизненной и посмертной известности Северянина есть совсем немного стихотворных исключений, которые никогда не становились объектом хулы, но, напротив, служили доказательством несомненного таланта их автора, образцом «настоящей поэзии», если понимать под нею риторическую и метрическую виртуозность, благозвучие и эмоциональную выразительность. Одно из таких стихотворений – «В парке плакала девочка», написанное в 1910 году и в следующем году опубликованное в малотиражной 24-страничной брошюре поэта «Электрические стихи»[49 - Игорь-Северянин. Электрические стихи. Четвертая тетрадь третьего тома стихов. Брошюра тридцатая. СПб.: Предвешняя зима (Тип. И. Флейтмана), 1911.], – стало известным широкому читателю в составе первого большого собрания стихотворений Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913), выдержавшего только за первые два года семь изданий (в 1918 году их будет уже десять)[50 - Сборник увидел свет 4 марта 1913 года (тиражом 1200 экз.) и был переиздан уже 26 августа того же года (тиражом 1500 экз.). Издания с 1?го по 7?е вышли в издательстве «Гриф», с 8?го по 10?е – в издательстве В. В. Пашуканиса. Издание 1913 года выделяется типографическим изяществом и отличается от последующих переизданий в «Грифе». Оно напечатано на более плотной бумаге, больше по размеру и по количеству страниц (25 ? 19 см, 141 с., 2–8?е изд. – типографически стереотипны: 21,5 ? 15,5 см, 126 с.), а главное: каждое стихотворение в нем начинается с новой страницы, в последующих изданиях стихотворения следуют в подбор (вероятной причиной этому была экономия бумаги). Цена всех изданий «Грифа» одинакова – 1 рубль. Для Серебряного века русской поэзии число переизданий и суммарный тираж «Громокипящего кубка» явились абсолютным рекордом. В Литературном музее в Тарту хранится записка Игоря-Северянина «История книги» (фонд 216) с подсчетом тиража в 34 348 экземпляров (Петров М. Северянин. Полное собрание сочинений в одном томе / Сост., автор коммент. и примеч. М. Петров. М.: Альфа-книга, 2014. С. 1240. Составитель этого издания поправляет поэта, указывая, что общий тираж его сборника составил 31 тысячу экземпляров).].
В парке плакала девочка: «посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости[51 - Северянин И. Громокипящий кубок. С. 31. Во всех прижизненных изданиях Северянина прямая речь девочки вводится в текст со строчной буквы. В новых изданиях (в том числе в издании: Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 1. С. 67) – с прописной, что соответствует правилам современной орфографии. В «авторукописи» «Громокипящего кубка», сделанной Северянином в 1935 году, строчная буква также сменяется прописной (см. фототипическое воспроизведение в: Терёхина В. Н., Шубникова-Гусева Н. И. «За струнной изгородью лиры…» С. 480). Можно гадать, насколько эти мелочи были важны для самого автора (сохранившего в тексте 1935 года старорежимные ять – ?, десятеричное i, и конечные ер – ъ). А. А. Реформатский, один из немногих, кто писал о грамматической роли строчных и прописных букв в дореволюционной орфографии, отмечал, что «употребление прописных букв – наименее регламентированный участок орфографической практики, где не только школа расходилась и расходится с печатью, но где буквально каждый может вводить свои правила или отменять обычай. Эта „легкость обращения“ с прописными буквами объясняется в основном тем, что в противовес основной массе орфографических вопросов данные правила не имеют никакого отношения ни к фонетике, ни к морфологии». Вместе с тем, он же отмечал грамматические нюансы в их употреблении при цитировании и передаче прямой речи: «Цитата должна начинаться с прописной буквы лишь в случае, когда она взята с начала фразы и является синтаксически замкнутой, т. е. вводной в данном тексте; если же цитата является членом простого или сложного предложения данного текста, она должна писаться со строчной буквы» (Реформатский А. А. Лингвистические принципы написания прописной и строчной букв. (Из цикла «Упорядочение русского правописания») / Публ. Е. А. Ивановой // Русский язык. 2003. № 16 (304). – https://rus.1sept.ru/article.php?ID=2003016). Не приходится говорить и о том, что само стихотворение печатается и прочитывается сегодня вопреки его первоначальному орфографическому оформлению: «Въ парк? плакала д?вочка: „посмотри-ка ты, папочка, / У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, – / Я возьму птицу б?дную и въ платочекъ укутаю"… / И отецъ призадумался, потрясенный минутою, / И простиль вс? грядущiе и капризы, и шалости / Милой маленькой дочери, зарыдавшей отъ жалости».].
Издание брошюры 1911 года, впрочем, также не прошло незамеченным. «Электрические стихи» были тридцатой по счету брошюрой поэта (из 35 изданных к 1913 году) – и самой представительной по числу включенных в нее стихотворений. Из подзаголовка к названию здесь же сообщалось, что это «четвертая тетрадь третьего тома стихов», то есть только часть куда более представительного собрания поэтических произведений (на последней странице обложки был помещен анонс планируемого трехтомника). Авторская самореклама проявлялась и в указании на дату самого издания: «Предвешняя зима» (напоминавшая, впрочем, о столь же календарно-поэтической датировке лирических книг Константина Бальмонта: «В безбрежности. 1895. Зима», «Будем как Солнце. 1902. Весна»). Типографской новинкой было и то, что имя автора, а точнее очевидный псевдоним, было напечатано в виде воспроизведения личной росписи – идеограммы, связывающей дефисом сравнительно распространенное имя с озадачивающим топонимом. Издание вышло с посвящением «Тринадцатой», туманно подсказывавшим читателю порядковые номера в «донжуанском списке» поэта[52 - Включенная в сборник «новелла» «Тринадцатая» представляла этот список в терминах коммунального расселения: «У меня дворец двенадцатиэтажный, / У меня принцесса в каждом этаже». Тринадцатый этаж – этаж вымышленный, заставляющей грезить о встрече с «вечно-безымянной, странно так желанной, / Той, кого не знаю и узнать не рад» (Северянин И. Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. С. 495, 496). Позднее Северянин переадресует посвящение «Тринадцатой» М. В. Волнянской (в девичестве Домбровской), с которой он познакомился в 1915 году и которая станет его гражданской женой (Терёхина В. Н., Шубникова-Гусева Н. И. «За струнной изгородью лиры». С. 246–249). В примечании к брошюре «Электрические стихи» те же авторы с курьезным педантизмом отмечают: «адресат не установлен» (Северянин И. Громокипящий кубок. С. 823).].
Обложка сборника Игоря Северянина «Электрические стихи» (1911); Вторая страница обложки сборника «Электрические стихи» (1911) с посвящением «Тринадцатой»
Первая публикация стихотворения «В парке плакала девочка…» в сборнике «Электрические стихи» (1911)
Стихотворение «В парке плакала девочка…» – пятнадцатое из тридцати трех включенных Северянином в брошюру. Содержательно и стилистически оно контрастирует с окружающими его произведениями. Остается гадать, насколько этот эффект был принципиален для самого поэта, поместившего незамысловатый рассказ о плачущей девочке между манерным «этюдом» «В предгрозье» о свидании тет-а-тет княжны с «улыбкою грёзэрки», графа и влюбленного в княжну лирического героя и страстной ламентацией, призывающей некую Грасильду, распевающую на закате «свои псалмы», «захлестнуть» грустящее сердце поэта «симфонией слепой». Но и другие стихотворения сборника выразительны разнообразием и в целом неожиданным соседством[53 - Валентина Белова, увидевшая в тридцатой брошюре Северянина «циклическое художественное единство», позволяющее говорить «о важных изменениях „облика“ северянинской музы», отмечает вместе с тем, что характерные для поэта «сюжетные зарисовки из жизни полуреальных, полувымышленных обитателей светских гостиных <…> здесь разбавляются, перебиваются совершенно чужеродными „вставками“, отзвуками других поэтик». «По-детски трогательное, сентиментальное „В парке плакала девочка…“ – одна из таких „вставок“» (Белова В. Я. Лирическая книга Игоря Северянина: Динамика жанра в свете творческой эволюции поэта. Дис. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 2014. С. 85, 86).]. Откликнувшиеся на сборник критики увидели в нем по преимуществу эксцентричные и комичные несуразности.
Владимир Нарбут: В настоящей худощавой книжке можно обрести такие перлы, как: «сосны – идеалы равноправий», «мухомор – объект насмешки и умор» <…> Северянин, если хотите, – недюжинный юморист: «О, поверни (?) на речку глазы / (Я не хочу сказать глаза)»[54 - Нарбут В. И. Северянин. «Электрические стихи» // Gaudeamus. 1911. № 7. С. 12.].
Виктор Ховин: Все, начиная с названия, продолжая датой – «предвешняя зима» <…> и посвящением («тринадцатой») и кончая самими стихотворениями, – есть самое безнадежное ломанье и рисовка, все бьет на эффект, но, конечно, крайне неудачно. Впрочем, книга может иметь успех в качестве «книги невольных пародий», но трудно предположить, чтобы о таком именно успехе мечтал автор[55 - Ховин В. Игорь Северянин. Электрические стихи // Светлый луч. 1911. № 5.].
Суровой нетерпимостью отличался отзыв Г. А. Вяткина в томской газете «Сибирская жизнь». Брошюре Северянина автор посвятил фельетон «„Электрическая“ литература», герои которого, работники редакции, сначала с опаской открывают присланную им бандеролью книжку («что если каждое стихотворение заряжено пятьюстами вольт. Ведь стоит только прикоснуться – и будешь убит наповал»), а прочитав ее,
все едва не лопнули со смеха, критик тоже не выдержал, швырнул книгу на стол и раздраженно заговорил: «Я сейчас же сяду писать ругательную статью… не об Игоре Северянине, несчастном авторе „Электрических стихов“, а вообще о таких, как он, которые коверкают язык, грязнят и уродуют литературу, плодят таких сумасшедших, как они сами». Критик, однако статьи не написал. Сотрудники сообща решили, что писать о книге не стоит, а нужно лишь послать автору извещение о том, что в местной психиатрической лечебнице прием больных продолжается[56 - Вяткин Г. А. Электрическая литература // Сибирская жизнь. 1911. № 101. 7 мая. Цит. по: Карташова Т. П. «Дуновение декаданса», или Томская литературная критика начала XX в. о новейших литературных течениях // Читатель и читательские практики Томска и Томской губернии (конец XIX – начало XX в.) / И. А. Айзикова [и др.]. Томск: ТГУ, 2020. С. 261–262. Автор статьи поясняет, что «фельетон имел совершенно локальный конкретно-исторический контекст. В 1908 году в г. Томске была открыта первая в Сибири психиатрическая больница» (С. 262). Позднее отношение к поэтам-футуристам как душевнобольным не исключает буквального, диагностического смысла. Лишним поводом к этому стало самоубийство И. В. Игнатьева в 1914 году. Среди газетных откликов на него – пересказ лекции доктора медицины Е. П. Радина «Футуризм и безумие» с подытоживающим ее выводом: «Футуристы в большинстве несчастные люди <…> Лекция доктора Радина и гибель несчастного, увлекавшегося „футуризмом“, – дают совсем новые основы для правильного суждения о футуристах» (Петербургская газета. 1914. № 22). Из сегодняшнего дня такие обвинения и показная «девиантность» авангардистов выглядят сознательной установкой на эпатаж как характерную черту их литературной и художественной программы (Даниэль С. Авангард и девиантное поведение // Авангардное поведение / Ред. В. Сажин. СПб.: Открытое общество, 1998. С. 39–46).].
Северянин усердно собирал отзывы на свои стихотворения, но одного отзыва он точно не узнал. Вышедшие из печати «Электрические стихи» вместе еще с четырьмя брошюрами поэт приложил в 1911 году к прошению в Литературный фонд о выдаче ему единовременного пособия в размере 50 рублей. Официально в прошении было отказано «за малыми правами», а в документах, предназначенных для внутреннего пользования, пояснялось: «Председатель запросил труды. Ввиду полной бездарности, по отзыву Я. Я. Гуревича, отклонить»[57 - РО ИРЛИ. Ф. 155. Цит. по: Игорь Северянин. Переписка с Федором Сологубом и Ан. Н. Чеботаревской / Публ. Л. Н. Ивановой и Т. В. Мисникевич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005–2006 годы. СПб., 2009. С. 700. Я. Я. Гуревич (1869–1942) – писатель и педагог, член комитета Литфонда.].