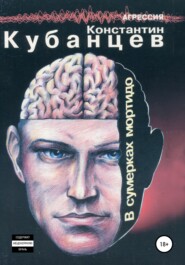По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одинокие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Игорь притормозил и постарался объехать громоздкую бетонную балку, треснувшую посередине, что так неудобно легла поперек улицы. Заминка! И за ним, за ведомым, выстроилась очередь: второй танк, третий, четвертый, пятый – их вереница, похоже на многочленистое фантастическое насекомое: на гигантскую уродливую гусеницу, топорщащуюся стволами-усиками. И, вывернув вправо, на тротуар, медленно, не спеша, они двинулись дальше. Ведь танк – он, как ледокол: сначала буравит этот искусственно созданный липкий туман своею длиннющей пушкой, словно берет пробу, а потом – грудью как на финишную ленточку, и клочья материи отлетают по обе стороны его сильного тела, а пространство впереди раздваивается: часть остается справа, часть слева. Адский грохот, скрежет, искры, что гроздями сыплются из-под стали гусениц, когда они, будто жернова, перемалывают горную породу и вздыбленный асфальт. Машина ползет. Или несется. Как думать! Как считать.
Напряжение изнуряет. Задача – выявить очаги локального сопротивления и подавить огнем, а ребята из мотопехоты зачистят, кажется не выполнимой. Потому что очагов сопротивления нет!
– А жилые дома, многоэтажные, полуразрушенные, но, как крепости, как подводные лодки, скрывающие своих? А в каждом – засада?
– Да! Но на седьмой, на пятый, даже на третий этаж пятидесятитонный танк не заберется.
И они – ползут. Во все стороны от себя – комья земли с арбуз и брызги размером с тарелку, только уворачивайся, эй, если живой! Ползут. Без колеи, без дороги, без направления и цели, перемешивая грунт: черный талый снег, мокрую землю, кровь.
Игорь, соизмеряя силу, скоростью и ландшафт, надавил на педаль газа – и стопа уперлась в бронированный пол. Мотор взревел как стадо диких животных. Танк, подпрыгнув, рванулся вперед. Руки наводчика на пульте прицела вспотели – мокрые, они скользят. Он обтер их об засаленную материю комбинезона. Башня и вместе с нею ствол пушки – жерло, из которого следует ожидать – только дайте команду – извержения, поплыла. Она рыскает в поисках врага: чуть качнулась вверх – примерилась к верхним этажам, и снова вниз – чтобы ударить в лоб.
Разведка боем! Противника не видно. Тридцать первое декабря – до нового, тысяча девятьсот девяносто шестого года восемь с половиной часов.
Стальной монстр в неизменно прочной броне, проверенной на удар и выстрел, воздействие взрывов и многотысячную температуру, на выносливость металла и его сопротивление – машина послушна Игорю. Она в эти минуты его часть. Его органы движения. Его инстинкт самосохранения. А он – её чувства: зрение, осязание, обоняние. Чувство равновесия и боли.
Развилка. Игорь сбросил обороты, и танк стал двигаться по инерции. Но обороты – почти на нуле. Налево? Направо? Приказ командира? Взять вправо. И левая ручка передачи – до упора. Машина стала загребать, и показалось, что движущаяся по тракту крепость накренилась… С высоты птичьего полета. Или с восьмого этажа.
За поворотом – обычное многоэтажное здание. Жилой дом. Да, когда-то в нем жили. Но стоял он не вдоль улицы, образуя привычную сторону, а прямо посередине, превращая улицу в тупик.
Игорь почти вывернул, но только почти. Танк, перекрыв движение в оба направления, под углом к огибаемому зданию – последнему на предыдущем перекрестке, практически замер. Этот угол составляет ровно сорок пять градусов. И не объехать его! Свернуть влево и уйти в отрыв или вправо – чтобы броситься в погоню? Нет, у машины, следующей за ним, не получится.
Ракета ударила в лоб!
Вторая ракета ударила в последний, пятый танк, когда тот, неспешно, но неуклонно подтягивался к своему взводу. Пехота, по счастью, отставшая от него, от последнего, успела отойти.
Не растерялся «второй». Резко бросив свою машину в сторону, он круто вывернул влево, смел угол противоположного дома, на секунды оказавшись погребенным под мусором: кирпичом, исковерканным металлом «несущих» конструкций и облаком силикатной пыли, которое на фоне тусклого серо-коричневого тумана выделилось вдруг неправдоподобно белым… будто взвился белый флаг, а в следующее мгновение вырвался – отряхиваясь и отфыркиваясь, разбрасывая осколки бетона, как мокрый пёс брызги, прибавляя в скорости до максимальной. Второй танк вырвался! Но помочь? Как помочь? Еще раз взревев, словно огрызаясь, машина ушла прочь с места завязавшегося боя. Нет! Он не удрал. Конечно, нет. Танку требовалось пространство, чтобы развернуться, а на той узкой улочке, как в каньоне, да под огнем – невозможно.
Время – вперед: минута, полторы, две…
Он несся, взяв разбег, недержимо. Снаряд ушел в казенник. Затвор. Стабилизаторы держат прицел. Верхние этажи… Пятый? Нет. Выше. Седьмой, восьмой. Залп! Еще, еще, еще. Многоэтажное здание рухнуло, как игрушечное. Теперь в нем не девять этажей, а три, и те – засыпаны тяжелыми балками, перекрытиями, обрушившимися лестничными пролетами и клетками, грудой перекрученной арматуры. Огневая точка подавлена, но три танка из пяти горели… И черный едкий дым – гарь, яд – наполнял собою пустую атмосферу.
Загорелись волосы. Лопнули глаза – их влага тут же испарилась. Истлели в нагрудном кармане гимнастерки фотография – на ней лицо смеющейся девчонки в очках, и четыре странички в клеточку, исписанные почерком отличницы-старшеклассницы – её письмо. Затем вспыхнула одежда, промасленная, хорошо горючая. Потом кожа. Кровь закипела и остановилась.
Аутодафе!
Горит, хорошо горит внутри танка тело двадцатилетнего бойца, Игоря Михайловича Жмурина, старшего сына Михаила Жмурина.
Восемь часов до Нового года.
Михаил вместе с дочерью и женой на кухне. Рая и Вероника режут овощи, мешают салаты, а он, провожая Старый год, уже пригубил коньяку.
Что-то болит сегодня сердце.
Второй план. Глава 2. Роман и Ас
1998-й.
Роман проснулся, когда шум журчащей воды прекратился. Видимо, это изменение звукового фона и разбудило его. Вероники рядом не было. Тридцать секунд ему потребовалось на то, чтобы окончательно прийти в себя и разделить сумбур и мешанину из образов и действий, что заполняли его разум, на сновидения и реальность. Последняя показалась прекраснее самых фантастических и смелых снов. Он улыбнулся своим воспоминаниям о прошедшей ночи, перекатился на свободную половину кровати и уткнулся лицом в подушку, хранившую женский запах и женское тепло.
«Как хорошо! До смерти хорошо!» – пронеслось в голове.
Он почувствовал новый прилив крови к своему пенису. Да, желание. Но не только физическое, властно требующее механического удовлетворения, но и другое, исходящее из высокоорганизованного цивилизованного сознания человека современного: желание увидеть, прикоснуться, заглянуть в глаза – стало овладевать им, распространяясь по его телу со скоростью штормовой волны.
Он встал и, не стесняясь своей наготы, прошел в соседнюю комнату.
– Вероника, – позвал он вполголоса.
– Я здесь, – отозвалась она.
Дверь в ванную была не заперта, и он вошел. Он увидел её силуэт, и его зарождающаяся эрекция моментально приобрела объем. Отведя полупрозрачную пленку-штору, он потянулся к ней рукой… Тик-так, тик-так, тик-так. Мгновения. Они врезаются в друг друга, как автомобили в дождь и гололед – и неважно, кто виноват, тот ли, который притормозил, или мчащийся вслед. Белое облако лавины неслось прямо на него, заслонив все остальное. Что происходит? Где он? Защипало в носу, зарезало в глазах, сдавило грудь, перестало хватать воздуха, он почувствовал, как неимоверной тяжести груз потащил его на дно мутной реки. Неуверенно повернувшись, он сделал шаг назад и снова очутился в ванной комнате, переполненной влажным паром. Здесь, сейчас, в настоящем. Он огляделся. Взор уткнулся в зеркало. Его отражение? Да, его – это он. И все в порядке. Нагое тело пропорционально и здорово. Лицо? Обычное лицо, не искаженное злобой, не передернутое отвращением, не застывшее в ужасе. Значит, все в порядке? А Вероника?
– Вероника, – позвал он в полный голос. Но в этот раз ему никто не ответил.
Шаг вперед. А вот и полупрозрачная шторка. Он снова отдернул её… И снова – дежа вю. И снова – пелена! Мутная, липкая, густая, обволакивающая, прожигающая кожу, будто кислота, переполненная запахом паленых перьев и звуком. Звуком, которого не было раньше. Он ничего не видит. Но звук, что внезапно и врасплох настиг его, он узнал. То был двухтактный стук его собственного сердца.
Он остался стоять на месте. Он напряженно пытался сообразить, что же случилось, почему вдруг он оказался… словно замурованный в склеп, и куда пропала Вероника – ведь она только что была здесь, рядом, разговаривала с ним. Так почему же он не видит и не слышит её, а?
Он вспомнил, как вчера днем, благополучно сдав последний экзамен, он заехал за Вероникой домой, дабы торжественно и официально просить её руки у её родителей, и как Михаил и Рая, хотя они и показались ему бесконечно печальными, ответили ему хором «да», а Рая еще и перекрестила его, и как весело хохотала в это время сама Вероника, наблюдая за ритуалом, и как они приехали сюда, в квартиру, что Роман снял неделю назад, потому что они с Вероникой решили начать жить вместе, сразу же после окончания сессии, и как началась их первая ночь любви…
Он набрал в грудь побольше воздуха и задержал дыхание, словно для того, чтобы прополоскать плевральные полости, омыть их чистым кислородом, и – выдохнул. И отдернул занавеску.
На этот раз он поднялся на поверхность. Он преодолел мертвую зону, когда нечем дышать и кажется, что легкие вот-вот и разорвутся, преодолел и увидел, как она лежит… перекинув через край чугунной ванны ноги, так, что они свешивались, будто ей захотелось ими поболтать. Круглые гладкие колени – две слепящие фары на фоне черного кафеля стен. Голова, грудь, живот, руки – где-то там, за ними.
Роман нагнулся – через её бедра, таз, живот – и заглянул ей в лицо.
По странной прихоти мгновенная смерть мало изменила её черты. Она почти не тронула их, не лишила привлекательности, не исказила гиппократовой гримасой. Лишь кожа побурела и натянулась. Но он все равно подумал: «Нет, это не Вероника. Но где же Вероника? Она – исчезла. Верони-ка-а… А это кто? Не помню».
Роман вышел из ванной комнаты. Он еще раз прошелся по квартире: кухня, зал, спальня, прихожая. По пути подхватил с пола тренировочные брюки и рубашку и натянул их на себя, в прихожей сунул босые ноги в легкие разболтанные сандали, открыл дверь…
Ни ключа, ни денег, ни документов.
За спиной автоматически защелкнулся замок.
Резиновые подметки заглушили звук шагов. Четвертый этаж, третий, второй, первый. В подъезде позади него полная тишина. Он толкнул тяжелую металлическую дверь – и солнечный свет резанул по глазам, как бритва по запястью.
– Вероника, ау.
* * *
Неведанная сила и цель, о которой он никак не мог вспомнить, вместе подталкивали его вперед. Но городу, погрузившемуся с рассветом нового дня в трудовые будни, вязнувшему в них с каждой проходящей мимо минутой все глубже и глубже, не было до него дела.
Он не шел, бежал. Не быстро и не по-спортивному, не разгибая колен и, в целом, нелепо, подергиваясь, подпрыгивая, но – бежал, останавливаясь лишь тогда, когда ему казалось, что кто-то зовет, прорываясь сквозь царившую в нем тишину.
– Роман, Роман, Рома.
На свое имя он реагировал! Как собака. Как кошка. Как лошадь. Ему хотелось на него отозваться. Приостанавливаясь, он растерянно озирался, но, не найдя глазами того, кому мог бы принадлежать голос, произнесший только что – «Ром-м-ма», тот голос, что прозвучал у него в голове, он снова начинал бег, будто кто-то опять завел его, закрутив против часовой стрелки ключик, что незаметно торчал в боку, до отказа.
Вскоре он понял, что звук зовущего голоса – галлюцинация, и что он – в существующей реальности – одинок. Это знание пришло в него без принуждения. Оно влилось в его распахнутую душу естественно, как в опорожненный сосуд, заброшенный в океан с острова. Он ощутил это, синхронно мобилизовав все органы чувств, свои и предшествующих поколений тоже, что в виде генетического кода, в виде насечек на спирали ДНК, присутствовали в нем, он ощутил это всей человеческой запрограммированностью на выживание, всей памятью эволюции, спрессованной в глубинных слоях его воспаленного мозга, и тотчас понял, что одиночество, овладевшее им, не сравнимо ни с чем: ни с одиночеством снежного человека или голодного волка; ни с одиночеством Робинзона, еще не повстречавшего Пятницу; ни с одиночеством матроса, запертого в отсеке подводной лодки, легшей на грунт; ни с напряженным одиночеством хирурга, склонившегося над обнаженным телом больного; ни с горьким одиночеством скрипача, потерявшего смычок. Нет, его одиночество было космическим и неизмеримым – таким, с каким не поспоришь, чей круг не разорвешь. Он догадался – он единственный человек на Земле.