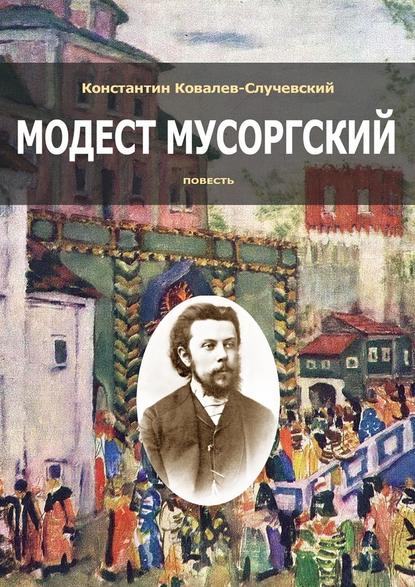По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Модест Мусоргский. Повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь появилось желание играть и сочинять, появилось стремление учиться, познавать, набираться опыта, понять глубокие корни и законы, на которых зиждется русская музыка. Книги и музыкальные вечера лишь частично восполняли это желание. Хотелось живого слова, живого общения.
Среди многих посетителей вечеров у Даргомыжского Модест вскоре выделил спокойного и очень образованного офицера, который был старше его на несколько лет. Но не только старше, а еще и опытнее. Как военный, он уже имел высшее академическое образование и служил инженером по вопросам строительства крепостей, или, как их еще называли, фортификационных сооружений. Как музыкант, он также имел не меньшие таланты и заслуги. Прекрасно играл на фортепиано, а также имел навык и школу в композиции, ибо учился у самого Станислава Монюшко – европейски признанного композитора.
Еще же этот военный инженер был дружен с теми, о близости с кем Мусоргский и мечтать не смел, – с великими знатоками музыки, известными критиками Стасовым и Серовым.
Звали этого человека непривычно – Цезарем, а фамилия была вполне французского происхождения – Кюи.
Уже через два дня Мусоргский и Кюи бойко играли в четыре руки на концерте у Даргомыжского. Они не только сдружились, но и сыгрались вместе, будучи прекрасными пианистами.
Так, один за другим, словно по волшебной цепочке, входили в жизнь Мусоргского все новые и новые люди, каждый из которых сделал для него многое, чтобы пробудить истинный талант, скрытый в нем. Эта цепочка благодаря Кюи привела его, наконец, к еще одной встрече.
Знакомство и дружба на всю жизнь
Декабрьский морозец упрятывал лица прохожих в воротники и меховые шапки. Дрожки, поскрипывая, плавно катились по Невскому. Вдалеке искрился на солнце шпиль Адмиралтейства. Милий Балакирев всматривался в черты столичного города, столь не похожего на Нижний Новгород – его родину, ни на Москву и Казань, где он обучался музыке. Новый дом – Санкт-Петербург выбрал он себе для проживания.
В столицу Балакирева привез его земляк, музыкант-любитель Улыбышев, взяв на себя все путевые расходы. В течение месяца юный композитор успел устроиться преподавателем фортепиано и выступить на концерте в зале Кронштадтского коммерческого собрания. За это же время он приобрел новых друзей. И каких! В канун Нового, 1856 года Балакирев был приглашен на елку к самому Глинке. Здесь он встретился с Даргомыжским. В это же время его представили Серову, а чуть позднее – Цезарю Кюи.
Казалось бы, никаких особенных событий в музыкальной жизни Петербурга не произошло. Но что же тогда дало повод Стасову сделать в своем знаменитом историческом обзоре «Двадцать пять лет русского искусства» следующую запись: «С 1855 года начинается новый фазис русской музыки. В Петербург приезжает из Нижнего Новгорода восемнадцатилетний юноша, которому суждено было играть необычно крупную роль в судьбах нашего искусства. Это был Балакирев…» Поводом для таких слов, видимо, было и непередаваемое обаяние юноши. Он и в самом деле в первые минуты поражал всех. Блеском искрящихся глаз и напористой энергией в ведении беседы, обширными познаниями в самых разнообразных культурных сферах и неукротимым желанием что-то сразу, здесь же, создавать, строить, наконец, своими собственными свежими сочинениями и переложениями из опер Глинки. Его просили играть, и он никогда не отказывал. Глинка у себя в доме сделал его выступления правилом, и тот «всякий раз по приходе должен был сыграть свою фантазию».
У Глинки за фортепиано садились многие. Играли и в четыре руки, и даже в восемь. Боготворение хозяина и учителя было неписаной заповедью, слушались его с полуслова. Но ершистый юный нижегородец, и месяца еще не пробыв в Петербурге, позволял себе то, чего не позволяли даже близкие друзья автора «Арагонской хоты». «Как ни сыграешь, все не по нем. Вообще на Глинку трудно угодить», – ворчал этот провинциал. Ну а чем дальше, тем больше. «У нас с ним завязался маленький спор, – рассказывал Балакирев. – Я уверял, что в интродукции есть одно место, где флейты не слышно, и что не нужно ли ее поэтому как-нибудь усилить; Глинка же доказывал, что не может быть этого… Так ничем и кончили мы этот спор… Не хотел ведь со мной согласиться Глинка, а был не прав…»
Ай да дерзкий молодой человек! Уже с этих дней он приобретал не только взаимопонимание, но и отчуждение, враги как на дрожжах росли вместе с друзьями. Но не таков был Глинка, чтобы не оценить заносчивого пианиста по достоинству. Всего два-три месяца общались они перед последним отъездом Глинки за границу в апреле 1856 года. И уже через год Балакирев в Кронштадте будет встречать тело учителя, привезенное на пароходе из Берлина, и приносить цветы к его могиле в Александро-Невской лавре.
Но тогда, перед самым отъездом, оставляя родину, Глинка скажет сестре: «Ежели умру, то дай мне слово, что никому не позволишь, кроме Балакирева, начать и окончить ее музыкальное образование; в первом Балакиреве я нашел взгляды, так близко походящие к моим во всем, что касается музыки… И я тебе скажу, что со временем он будет второй Глинка». По поводу «ее образования» – имелась в виду Ольга – любимая племянница Глинки.
Балакирев быстро завоевал Петербург. Вокруг него «лепятся» передовые, критически настроенные молодые музыканты, о которых довольно противоречиво, но достаточно эмоционально высказывался Стасов: «Вся эта молодежь была свободна от предрассудков… не боялась признавать устаревшим или малоталантливым то, что иногда высоко чтится по школьным правилам. Мало того: даже у тех гениальных композиторов, перед которыми она все более преклонялась, она не считала себя обязанною находить превосходным все сплошь…»
«Все мы были юны, увлекались, критиковали резко, – вспоминал полвека спустя Кюи. – Господи, как были мы непочтительны к Моцарту и Мендельсону, как увлекались Шуманом, а потом Листом и Берлиозом, но выше всех ставили Шопена и Глинку. Засиживались до поздней ночи. Вот какую консерваторию мы все проходили».
Цезарю Кюи и было суждено соединить руки Балакирева и Мусоргского. Это произошло летом 1857 года на одном из вечеров у Даргомыжского.
Со многими уже был знаком Модест. Многих почитал, многим поклонялся. Но еще не было у него настоящего друга, товарища, близкого по духу. Мусоргский так привязался к Милию Балакиреву, что уже не мыслил своей жизни и своего музыкального образования без него. Талант и темперамент молодого наставника, его устремления к развитию традиций русской музыки вызывали у Модеста восхищение.
– Я бы… Мне хочется попросить вас… Впрочем, нельзя ли брать у вас уроки композиции? – спросил как-то у Балакирева смущенный Мусоргский.
– Вы знаете, я не теоретик. Гармонии учить – не мое дело. Но объяснить форму сочинений так, как я это понимаю, – пожалуйте, готов. Будем изучать все на практике. Идет?
– Согласен.
– Тогда встречаемся по пятницам.
Балакиревские пятницы
В магазин знаменитой фирмы музыкальных инструментов Беккера вошли два молодых человека. Деловито обошли ряды фортепиано и роялей. Остановились у одного из них.
Тот, что был пониже ростом, открыл крышку инструмента и пробежал пальцами по клавишам.
– Сразу видеть профессиональ! – произнес хозяин магазина с немецким акцентом. – О, этот инструмент… Ошень хорошо! Господа не пожалеть брать!
– И в самом деле не плох, – обратился Балакирев к Модесту. – Вот то, что вам нужно. Непременно нужен хороший рояль, ежели вы всерьез решили заняться музыкой.
– Что ж, буду просить матушку помочь с покупкой.
– Господа сделать лучший выбор! – расплылся в улыбке хозяин.
Через неделю «Беккер» красовался в квартире Мусоргских. «Я Вам должен быть тысяча раз благодарен за прекрасный выбор… – писал Мусоргский Балакиреву. – Я сегодня так хватил по этой машине, что у меня в кончиках пальцев началась какая-то жгучая, острая боль, точно мурашки заходили…»
Обновили рояль Второй симфонией Бетховена, которую друзья сыграли в четыре руки на следующем занятии. А потом играли и Шумана, и Шуберта, и Глинку.
Занятия стали постоянными. Продолжались, но не всегда регулярно.
«Извините, голова кружится, только что из дворца с парада», – пишет Мусоргский Балакиреву. Служба все больше и больше мешает ему, отнимая не только драгоценное время, но и силы.
«К величайшему сожалению, должен я известить Вас, что завтрашний вечер я не свободен, потому что иду в караул…»
«Завтра я дежурный, это досадно, ужасно хочется повидаться с Вами…»
Встречи с Балакиревым заставили Мусоргского задуматься не только о своем дальнейшем музыкальном образовании, но и о себе самом, о своей жизни, о смысле существования.
Модест жадно читает философские и исторические книги, увлекается мистицизмом, ощущает внутри себя даже какую-то болезнь, которую позднее назовет «страшной». Он сильно страдает от этой болезни и становится очень чувствительным и впечатлительным. Это эмоциональное состояние, усугублялось тем, что всякий раз после занятий с Балакиревым он понимал: как же он еще далек от настоящего осознания искусства! Это состояние никак не вязалось с его повседневной обязанностью служить в полку.
Каждый день, когда приходилось ему общаться с друзьями-гвардейцами, он воспринимал свое положение почти катастрофическим. Здесь он был телом и отчасти разумом. Но его сердце, его душа, его мысли, вся его жизнь была уже не здесь. Он жил другим и для другого.
Выбор был необходим. Искусство и армейская служба для него несовместимы. Если для Бородина и Кюи, казалось, не составляло труда в коротенькие перерывы между выполнением обязанностей и работой писать свои сочинения, то его душа должна быть отдана музыке полностью.
Знакомство со Стасовым, покровителем Балакирева, прозванным друзьями Генерал-Бахом за свою память и титаническую работоспособность, еще более предопределило принять решение уйти из полка.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: