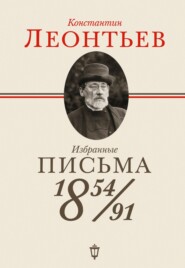По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Страх Божий и любовь к человечеству
Год написания книги
1882
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем (IV, 16).
Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (IV, 20.)
Восемь эпиграфов – и все только о любви, и все из одного первого послания ап. св. Иоанна!
«Многая простота!»
Отчего же бы не взять и других восемь о наказаниях, о страхе, о покорности властям, родителям, мужу, господам, о проклятиях непокорным, гордым, неверующим?.. Все это найдем мы в обилии и у евангелистов, и в посланиях. Если Бог у графа Толстого аллегория или условное выражение только для названия чего-то неживого, для обозначения какой-то отвлеченной общей сущности, которую не отрицают и сами материалисты, то, конечно, можно брать из Евангелия и апостолов только то, что нам нравится. Но если Бог у графа Толстого есть христианский Бог, то есть Св. Троица, Которой Второе Лицо сошло с небес и воплотилось, то всё без исключения, переданное нам евангелистами и апостолами (которым дано право «разрешать и связывать»), одинаково свято и равно обязательно. Петр-апостол поэтому не хуже апостола Иоанна, Иоанн не ниже Павла и т. д.
Они все отвечали, смотря по обстоятельствам, на те сложные вопросы, которые по очереди предлагала им развивающаяся (то есть осложняющаяся) христианская жизнь.
Они были «мудры яко змии» по повелению Божию; ибо простота ума, односложность логического мотива для христианина вовсе не обязательны; обязательна простота сердца, то есть доброта, искренность, покорность Богу и так называемой «судьбе своей, послушание пастырям Церкви, начальникам и т. д.». И в некоторых характерах и при иных условиях общественного положения это христианское упрощение сердца достигается только при помощи весьма сложной работы верующего и, главное, смиряющегося ума. Конечно, такие характеры и такие общественные условия существовали и в апостольские времена, и апостолы писали разное о разном и для разных, а не разное об одном и том же и для одних и тех же! Разнообразное содержание посланий объединено достаточно верой во Христа и Его учение. Мысль Христа, не меняясь ничуть, разлагается в посланиях подобно единому солнечному лучу в радуге или призме на главные основные цвета; в дальнейшем же учении Церкви, уже более подробном и ясном, в постановлениях соборов и в святоотеческих творениях эта единая (но вовсе не простая) мысль реализируется в еще более сложных оттенках и смешениях этих же самых красок. Учение, развиваясь, разветвляясь, доходя до самых ясных и разнородно крайних выводов из единого начала (божественности Иисуса), становится поэтому все более и более понятным в частных случаях, в приложении к жизни. Но сердечное понимание этой сложности требует прежде всего покорности ума – покорности и тому, что нам кажется даже сухим или жестким, или непонятным и не возбуждает сейчас тех порывов горячей искренности, без которой нам как-то скучно, вследствие романтической избалованности нашей. «А кто преслушает Церковь, тот да будет тебе как язычник и мытарь», – сказал Сам Спаситель. Чего же больше? Этим повелением мы обязуемся принимать спокойною, сухою, если хотите, верой ума, даже без всяких приятных порывов сердца, всё учение Церкви, обязуемся даже располагать в уме своем элементы его именно в том порядке, в каком располагает их Церковь, например: «Начало премудрости страх Божий (или страх перед учением Церкви, это все равно), плод же его любовь», т. е. та правильная и естественная любовь, которая человеку на земле доступна и больше которой требовать невозможно, не впадая в ошибку многих прогрессистов, воображающих, что несовершенство социального строя и плохое воспитание до сих пор мешало какому-то упоительному катаклизму грядущего любвеобилия… Нет, кто верит и кто готов смиряться пред учением Церкви, тот скоро узнает, до чего трудно и хорошему по природе человеку бороться ежедневно против сухости, лени, утомления, своекорыстия, досады, гордости и т. д., до чего все эти грехи свойственны нам и всегда будут свойственны. Нашей гордости хочется верить в полную исправность человечества на этой земле; нам обидно, что самые лучшие люди так немощны. Но Христос указал, что человечество неисправимо в общем смысле; Он сказал даже, что «под конец оскудеет любовь», т. е. со временем ее будет еще меньше, чем теперь, и потому давать советы любви нужно только с целью единоличного вознаграждения за гробом, а не в смысле сплошного улучшения земной жизни человечества. Любовь к ближнему, основанная на всецелом вероучении, на любви к Церкви, – вот настоящая христианская любовь! Любовь же своевольная, основанная только на порывах собственного сердца, есть очень симпатичная вещь, но… она до того «удобопревратна», что может, как я говорил, дойти даже и до любви к революции.
Сознавал ли все это граф Толстой, когда писал «Чем люди живы?» – и отвечал ли на этот вопрос «одною любовью»? Было ли его логическое самосознание равносильно в этом случае его художественному творчеству? Едва ли. Если б он все это понимал и если бы сила и ясность христианского мышления в нем равнялась изяществу и силе его полунечаянного творчества, то он, вероятно, не поставил бы даже таких однородных восьми эпиграфов, а перемешал бы их с другими совсем иного оттенка.
Я могу, конечно, ошибаться; но сдается мне, что автор просто сам просмотрел, что его повесть правильнее его тенденции: мне кажется, он не сознавал, что даже и его любовь основана прежде всего на послушании и страхе, так как Ангел был наказан именно за любовь своевольную…
Понял ли граф, что гениальный повествователь в нем выручил на этот раз весьма несовершенного христианского мыслителя?.. Едва ли…
Если б он желал быть строго верен церковному святоотеческому христианству, то он осветил бы нравственные элементы своей повести равномернее, «и страх Божий» не остался бы у него до такой степени в тени, что надо его искать…
Вероятнее, что он и не имел в виду строго держаться святоотеческих преданий в направлении своем, а желал проповедовать свое, осветить ярче то, что ему больше нравится, в чем он находит больше поэзии и отрады… Иначе, повторяю, и эпиграфы были бы разные, и освещение фактов равномернее… Но пусть будет так: пусть в этом «новом» христианстве будет особый, почти исключительно нежно-розовый оттенок!.. Но вот вопрос: свое ли действительно оно у графа? Ново ли оно? Поражает ли оно кого-нибудь гениальною оригинальностью?..
Нет, оно не свое, оно не ново, оно вовсе не гениально – это новоизобретенное «розовое» христианство!
Мы его знаем давным-давно… Оно проповедовалось Ж. Сандом, с.<ен>-симонистами и множеством других западных европейских писателей, проповедуется и у нас антиправославными органами печати… Это христианство принимает у каждого свой оттенок и переходит иногда (совершенно неожиданно для кротких наставников) в действия злобы и разрушения у тех из их последователей, которые завистливее, решительнее, грубее их или больше их чем-нибудь в жизни обижены. Гениальное должно быть непременно свое и повое; а у графа Толстою ново и, пожалуй, гениально в этом деле только то, что великий оригинальный и русский художник, вопреки весьма дюжинному общеевропейскому сантименталисту, спас самое содержание повести в ней (вероятно, нечаянно), то, чего бы ей недоставало без этого в строго христианском смысле.
Если же я ошибся и проповедник строгий преднамеренно скрылся за проповедником сладким, т. е. ярко осветил и действием, и особенно эпиграфами любовь, а таинственный страх скрыл нарочно в полумраке, с целью примениться «духу времени» и с помощью «елея любви» легче ввести в души железо смирения и страха, то это еще хуже!.. Это значило бы «перехитрить» и не достигнуть цели, ибо любовь приписывается в повести очень обыкновенным людям, и всякому это ясно; а наказанию за ослушание подвергся Ангел, и «высокообразованные» наши читатели могут счесть все это лишь за «поэтическую красоту» или, говоря современным языком интеллигентного снисхождения, за «очень милую аллегорическую подробность в наивно-простонародном духе…» Но это прекрасно! Лучше уж сделать тот промах, о котором я говорил.
К тому же всем известно, что гр. Толстой на «дух времени» прежде не обращал особого внимания и желал быть всегда от него независимым; так что если он, как проповедник и мыслитель, предпочел на этот раз быть почти рабом общеевропейского сантиментального лжехристианства, вместо того чтобы стараться быть смиренным сыном истинной Церкви, то это тоже, видимо, вышло бессознательно только потому, что стать первым нынче очень легко, а чтобы сделаться или пребыть вторым, нужно гораздо больше условий.
В последнем случае и процесс мышления, и процесс нравственного труда над собою должен быть гораздо более сложный и сильный.
Что сила мышления христианского у графа Толстого стоит в этой восхитительной по изложению повести не на одном уровне с силой художественного выражения, это видно особенно из одного эпизода.
Я говорю о богатом барине, который заказал сапоги на год, а умер тотчас же в возке.
Барин, правда, командует несколько грубо и резко, он, видимо, не верит честности русских мастеров. И в этом неверии он, конечно, прав. И Семен, хотя сам человек честный, вероятно, знает, что барин, вообще говоря, имеет основания плохо верить в прочность русской работы. Он за тон этот и не сердится… Но что говорят они оба с женой, когда этот толстый, сильный и богатый, привыкший ко власти человек вышел из избы, «ударившись нечаянно головой о низкую дверь»?.. Что, они жалеют его? Что, им стало страшно за голову этого человека, который вреда им никакого не сделал, а, напротив того, доставил им случай выгодного труда? О нет! Они злобно и грубо завидуют его здоровью, его силе, его богатству..
Вот их противный разговор.
Отъехал барин. Семен и говорит:
– Ну, уж кремняст! Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.
А Матрена говорит:
– С житья такого как им гладким не быть! Этого заклепа и смерть не возьмет.
Какие это чувства? Хорошие? Христианские? Нет, конечно. Из подобных антихристианских чувств зависти и самой легкой, преходящей, мгновенной злобы развиваются мало-помалу все те требования «прав без обязанностей», которых плоды слишком известны, чтоб о них здесь распространяться. Нужно только, чтоб эти хотя и грешные, но все-таки минутные движения Семенов и Матрен нашли себе оправдание в теориях лжепрогресса, и вот односторонне понятая, «удобопревратная» любовь становится иной раз нечаянно орудием злобы, чуть не научно оправдываемой!
Но чем же здесь виноват граф Толстой? – спросят меня. – Он не отвечает за дурные движения своих действующих лиц; он доказал только и этою естественною сценой, какой он великий художник! Видимо любя своего сапожника и жену его, он остался беспристрастен и не скрыл в этом случае их порочного, не христианского движения!..
Да, это так; но ведь я и сам говорю, что художественный гений его несоразмерен с весьма среднею силой его христианского мышления, со степенью его евангельского понимания.
Если б эти две силы у него были ровнее, то он, вероятно, не забыл бы упомянуть, что Ангел опять услыхал в избе ужасное зловоние греха, подобно тому как он слышал его в те минуты, когда Матрена бранила мужа и не хотела его накормить. Смрад во время завистливых выходок сапожника и его жены должен бы быть сильнее даже, чем тогда; ибо гораздо естественнее и простительнее бедной женщине испугаться и рассердиться на мужа при виде неизвестного и раздетого бродяги, с которым приходится делить последний кусок хлеба, чем расплатиться ни с того ни с сего завистью на человека только за то, что он посытее, поздоровее и потолще их с мужем. Настоящая христианская любовь не имеет и тени одностороннего демократизма. Она не спускается только сверху вниз по социальной лестнице и не разливается исключительно по плоскости эгалитарной казенщины; она сияет во все стороны одинаково. И есть много случаев, в которых высший, богатый, одаренный властью гораздо достойнее и сострадания, и сочувствия, и всех других движений нашей любви, чем неимущий или даже раб.
Молодой граф Ростов, который в «Войне и мире» молодцом один-одинешенек поколотил мужиков, бунтовавших против беззащитной и, заметим, некрасивой княжны Болконской (которую он даже и видел в первый раз), обнаружил в этом случае больше христианской любви, чем, например, французский живописец Давид, когда он на вопрос доброго, слабого, уже развенчанного и униженного Людовика XVI: «Когда вы окончите мой портрет?» – отвечал: «Я буду писать портрет тирана только тогда, когда голова его будет передо мной на эшафоте!»
Каждый умный и православный простолюдин поймет Ростова и назовет его, не без сочувствия, «лихим барином!». А Давиду стоило бы за это слово дать несколько десятков великорусских прежних плетей!
Из жизни православного нашего народа можно много привести примеров истинной христианской любви снизу вверх, но я расскажу только об одном случае, которого и я сам был недавно свидетелем. Случай пустой, но очень характерный. В Оптину пустынь приезжает (ныне уже скончавшийся) Епископ Калужский и Боровский Григорий. Он был человек скромный. Приехал он в маленькой, легкой каретке, на тарантасном ходу, тройкой. Духовное начальство монастыря встретило его у ворот с крестом.
День был будний, и толпа мирян у этих ворот была невелика. Когда архиерей удалился вместе с игумном, стоявший около меня средних лет небогатый козельский мещанин сказал мне с сожалением: «Что же это он так просто… на троечке!.. Хоть бы четверочку запряг бы!.. Право!.. Архиерей ведь», – прибавил он значительно.
Вот это любовь! Вот это простота христианская! Что ему за дело в эту минуту, что у него у самого сапоги худы! Он желал бы, чтобы сановник Церкви, которую он так любит, сиял бы как можно больше, даже и внешностью… Положим, что в подобных случаях примешивается эстетическое чувство, но что же за беда! Тем лучше. Если где поэзия и нравственность христианская вполне заодно, так это в подобных случаях бескорыстных движений в пользу высших и власть имеющих.
Истинное христианство тем и божественно, что в нем все есть: и высшая этика, и залоги глубочайшей государственной дисциплины, и всякая поэзия: и поэзия нищего в лохмотьях, поющего Лазаря, и поэзия владыки, сияющего золотом и «честным» камением…
Козельский мещанин в этом случае оказался не только более строгим и последовательным христианином, чем граф Толстой, но и больше художником, ибо граф Толстой не выдержал даже до конца мистического характера Ангела и забыл о необходимости, в которую он поставлен, чувствовать смрад смерти всякий раз, когда люди грешат недостатком любви, как грешил сапожник с женой, завидуя барину и злобясь на него только за то, что он толст и здоров. Чтобы не забыть об этом, нужно бы только знаменитому писателю нашему прочесть с покорностью и смирением те места из апостолов Павла и Петра, где они даже несчастным рабам римским строго и с сильным чувством приказывают любить своих господ и повиноваться им не только в глаза, но и за глаза для угождения Богу (Петра 1-е послание, гл. 2; Павла к колоссаям, г. 3; Иуды 22… и к одним будьте милостивы с рассмотрением, 23, а других страхом спасайте!)…
Нельзя христианину предпочитать Иоанна Петру или Иакова Павлу, потому что они больше угодили нашему поэтическому капризу или нашей сантиментальности. Такое одностороннее освещение христианства даже некоторых детей, читавших повесть графа Толстого, удивило и запутало… Эти умные дети стали спрашивать у старших своих «За что же Ангел был наказан, когда он пожалел эту женщину? Ведь это любовь?..» Я спрашиваю, легко ли было на это отвечать большинству нынешних родителей, стыдящихся страха Божия? И не было ли плохое объяснение их источником какого-нибудь дальнейшего вреда для детей, прочитавших эту книжку, изданную Обществом распространения полезных книг?
Нет, господа новаторы наши, далеко вам до истинного христианства – глубокого и всестороннего, твердого и гибкого в одно и то же время, идеального до высшей степени и практического до крайности!
Ваши знамена – это жалкие, растрепанные обрывки христианства, на которые и смотреть не хочется тому, кто хоть раз видел во всей красе его настоящий, широко веющий стяг Православия.
И добро бы ваши полухристианские и лжехристианские новшества были в самом деле оригинальны и новы; а то они все не что иное, как простодушное и даже иногда смешное повторение европейских, и в особенности французских, задов.
Вот бы где гордость была кстати и без греха! Если бы стыдились пуще всего сбиваться на французскую эгалитарностъ и стыд бы этот доходил даже до сильнейшего гнева на нее и ее представителей, то этот гнев был бы гнев хороший, гнев чистой идеи; этот гнев был бы похож на пощечину, данную Арию на соборе св. Николаем Мирликийским; эта гордость русской мысли незаметно довела бы многих до простого, непритязательного смирения перед Православною Церковью и даже перед самыми несовершенными ее представителями.
Эти лично иногда несовершенные представители уже тем хороши, что они обязаны сказать мне настоящие правила веры, напомнить мне то, о чем я забыл…
И наконец, разве нет в среде этой людей прекрасных, ученых, образованных, мыслящих? Или разве нет уже между ними подвижников примерных или искренно добрых людей, любвеобильных, благородных?..
Ищите – и найдете их!..
Будьте сами проще сердцем и поглубже, посложнее умом, и они откроются вам и научат вас лучше всякого «Фоканыча» или «подавальщика Федора», которые учили Константина Левина и ничему настоящему его не выучили!
notes
Примечания
1
В последней части «Анны Карениной».
2