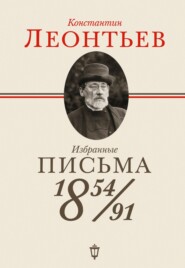По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В своем краю
Год написания книги
1864
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Панихида, конечно, долг, – сказал дядя, – аи туда бы к ней самой недурно…
– Зачем?
– Рассеяние.
– Я не скучаю.
– Разве тебе она не по душе? Добрейшего сердца дама. И вид какой…
– Видел я ее в церкви!
– Что ж, Вася, разве плоха?
– К чему это такой рост? – с пренебрежением отвечал Вася, – и очень много уж руками рассуждает. Мне к такой рослой женщине и подойти страшно.
– Ты любишь книги, а книг там много. Молодежь, девицы бывают иногда, иногда бывают девицы…
– Вам все женить меня хочется, дядя… Нет, вы это оставьте! И к чему это мне жениться? Чтобы в тесноте кислым молоком пахло? или чтобы с женой в кибитке тащиться и нюхать, как рогожей воняет, и смотреть, как она клушей сидит? А я от жалости возненавижу ее… Нельзя не возненавидеть человека, которого надо беспрестанно жалеть! Сил не станет.
– Ну, служить! – помолчав, сказал дядя.
– Служить; рад бы, да в город смерть не хочется, а здесь как служить? даже в троицкий лазарет ездит доктор из города…
– Если хочешь, я похлопочу, чтобы тебя…
– Нет, нет, избави вас Боже!
– В таком случае практику надо по домам завести, у других отбить. Скоро ты и христианству своему пищи и опоры не найдешь. Последние свои пять рублей издержал из лекарства; а после что будет? Лечи помещиков… По крайней мере, источник есть, опора, пища, источник есть! И крестьяне своим порядком могут дань доставлять: куры, яйца, полотно…
– Без источника я сам знаю, дядя, что нельзя… дайте образумиться.
– Живи, живи себе, Вася, как знаешь; я говорю только из предусмотрительности об источниках… Для твоих же христианских правил.
Руднев покраснел.
– Далеко кулику до Петрова дня, дядя, и мне до христианских правил далеко! Если б я надел тулуп и почти не жил дома, и ходил с котомкой от старухи к старухе, от больного к больному: кто в силах сам купи лекарства, не в силах – я помогу – вот тогда бы я был христианин! Чтоб каждый грош, который я отдаю бедному, отзывался во мне, с непривычки, лишением и страданием – вот это – христианин! тогда бы я и к помещику пошел бы смело и взял бы с него деньги, чтобы обратить их туда же. А я ведь этого не делаю… И даже, – прибавил он, вздохнув, – не стану ничего предпринимать решительного, пока не приду в себя, не обдумаю всего, что мне нужно.
Руднев продолжал ходить по комнате; дядя внимательно следил за ним глазами.
– Старик стариком сгорбился, – заметил он наконец с досадой. – Это упорство заметно в тебе с малых лет и происходит ни от чего другого, по моему мнению, как от твердости характера!
– Какая у меня твердость!
– Нет, твердость есть, твердость есть… Как хочешь, брат, а твердость есть!
– Да что же вы меня как будто обвиняете? Я очень рад, если она есть.
– Это, смотря по обстоятельствам дела, Вася, смотря по случаю; я тебе скажу про себя. У меня всегда был твердый характер. Но изволишь видеть, где ахиллесова пята… Человек твердый упорствует во всем и не без ущерба иногда! В 48-м году была холера и меня затронула. Признаюсь, я испугался; потом мне стало легче; но что ж? никто не мог успокоить меня, дрожу от страха. Человек слабый успокоился бы давно; но я, твердый характер, стал на своем: боюсь, боюсь и боюсь. А это вредно, ты сам знаешь! Так вот и ты себе на зло все делаешь…
После этих слов дядя уехал, но всю дорогу не выходила у него из ума задача, как бы оживить дорогого упрямца и отшельника.
III
– Здоровы ли вы, Владимiр Алексеич? – спросили в Троицком старика Руднева.
– По мере возможности, графиня, по мере возможности… Года уж не те…
– Отчего ж? Вы гораздо старее меня, а я перед вами развалина. Завтра хотим ехать в *** монастырь… Боюсь, что недостанет сил сделать верхом сто слишком верст взад и вперед. Грудь болит, и голова кружится.
– ' Года уж не те, графиня! Бодрости нет – сообщения соков…
Хотя Владимiр Алексеевич с трудом решался говорить про свои чувства, пока не было в этом крайней нужды, но Новосильская умела сейчас узнавать, когда соседа волновало что-нибудь: язык его не выдавал, но выдавали брови, которые прыгали и от радости и от горя.
– Вы что-то не в своей тарелке! – сказала она ему. – Скажите-ка, что с вами… Не пригожусь ли я?
– Да все Вася… с Васей вожусь.
– Что же он?
– Пыжик; как был в десять лет пыжик, так и в двадцать остался… Нет, нет и нет.
– Что нет? Служить не хочет?
– И служить не хочет, и к вам ездить не решается…
– Хотите, – сказала Новосильская, – я сама ему первый визит сделаю? Завтра мы все, и Лихачевы с нами, заедем к вам около двенадцати часов… Это по дороге; и уговорим его… Я и детей заставлю просить… А уж раз познакомится, не будет бояться нас…
– Только вы его не слишком! Изволите видеть… надо знать человека… надо знать человека…
– Не беспокойтесь, – сказала Новосильская. Старик притаился так, что Рудневу и в голову ничего не пришло.
На следующий день он сидел у окна и читал. За полчаса перед тем ушла от него первая пациентка, которой он сделал пользу… и с которой ему было очень много хлопот. В дядиной деревне никто и верить не хотел, что «Васинька-то дитятя» стал «лекарем». У старухи распухла нога; Руднев купил на свои деньги камфары и спирту и сказал: «Растирать, а завтра сделаю бинт и бинтом тебе…» А старуха подумала «винт» и, когда он вышел из избы, подняла крик, что над ноженькой своей баловать не даст, и чорт бы старого барина взял, что он ее научил Ваську-дурака призывать. Камфару забросила, а спирт выпили внуки старухи.
Купить больше было не на что: крестьяне своих денег не давали, а у Руднева уже не было; насилу выпросил у дяди полбутылки деревянного масла, смешал его с камфарой, которую забросили на полку, и насилу наш молодой доктор убедил старуху, что у него в руках «бинт», а не «винт». Бинтовал он отлично; старуха разлакомилась и все приговаривала невестке: «Ай-да Вася наш… Вася… мне и то легче стало… Нет, друг, он знает!..» – Известно, кто чего держится, так тем и управляет, – отвечала невестка.
Опухоль через неделю спала, и старуха сама пришла к «дитяти» и принесла ему разукрашенное полотенце, которое он с удовольствием принял.
Приятное впечатление от этого случая было еще так сильно, что Руднев взял нарочно книгу, желая остудить свое волнение; но читалось ему плохо… «Спасибо! спасибо!» – чудилось ему беспрестанно, – «Ты молодец!.. Живи ты нам на пользу и радость… Нет, Василий Владимiрович наш ничего, тебя уважать можно. Ты людям нужен. Ты не последняя спица в колеснице… Спасибо, молодец; спасибо, молодец, Василий Владимiрович. Ай-да Вася наш деревягинский!»… Наконец он положил книгу и, так, в самом хорошем настроении духа, глянул в окно на дорогу, которая вилась с горки на горку к реке.
Вдруг на первой горке показались всадник и всадница. За ними два других, еще трое, еще два – 9 человек! вдали чернелись экипажи… ближе-ближе…
Руднев уже ясно мог разглядеть все общество: впереди, рядом с Новосильской, солидно ехал длиннобородый, толстый предводитель на большой казацкой лошади; за ними, гарцуя на сером в яблоках, чересчур уже красивом коне, сопровождал скромную англичанку кудрявый брюнет в парусинном балахоне и синей фуражке; дети, берейтор-солдат, француз, должно быть, на чахлой клячонке, в круглой соломенной шляпе, спешили за передовыми…
Одно мгновение – Новосильская пустилась в гору вскачь; за ней другие; поворотили во двор; дядя уже суетился на крыльце… Филипп помогает дамам… Руднев! что с тобой? В твоей ли пристройке такой шум, такая толпа светских людей? Едва находишь ты голос для коротких и смущенно-строгих ответов. Все улыбаются, жмут доктору руку, зовут и просят; дети расспрашивают: «Что это? что вот это у вас? а эта человечья голова зачем?..» – Доктор, верно, френологией занимается, – говорит рослый и кудрявый молодец в балахоне.
– Разве вы верите в систему Галля? – спрашивает Новосильская с улыбкой, и сверкнула глазами так, что Руднев не знал, что это: насмешка, ласка или светская наглость?..
– Нет, я занимаюсь немного рациональной краниоскопией и вообще остеологией, – отвечал доктор глухо.