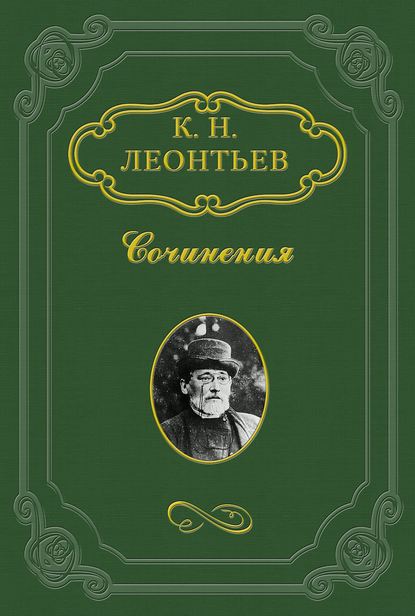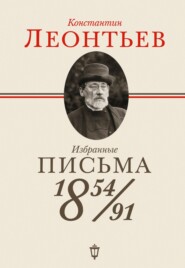По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Египетский голубь
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я стал было просить вперед мое жалованье у нашего казначея Т., добродушного толстого грека-католика. Он иногда давал. Но на мою беду Т. был в то время под самым неблагоприятным для меня впечатлением.
Один из небогатых сослуживцев наших, родом болгарин, незадолго пред этим взял у него вперед жалованье за два месяца, заболел и умер. Толстый Т. топал ногами и с мрачным видом кричал:
– Вообразите, какой фарс разыграл со мной «ce diable de Stoyanoff»! Взял деньги и умер! И я теперь плачу казне свои… Я не буду больше никому давать ни копейки.
Что мне было делать? Мера терпения моего истощилась; та внутренняя самоуверенность, та гордость, которая до этой минуты возвышалась над белыми старомодными и странными кителями, начала почему-то слабеть… мне становилось больно, скучно…
Счастливая случайность выручила меня неожиданно. Тоскуя о новом платье, я зашел к Вячеславу Нагибину, молодому чиновнику русского почтового ведомства в Константинополе.
Он был юноша богатый; расчетливый до скупости; по службе аккуратный; маленького роста, свежий и красивый, как куколка; охотник до хороших вещей, до древностей, до восточных ковров, до кипсеков. Я с ним был в хороших отношениях; во время приездов моих в столицу находил всегда пристанище на прекрасном диване его приемной, и даже, признаюсь (я дал себе слово во всем признаваться в этом рассказе), удивлял всех тем, что умел, несмотря на его чрезвычайную расчетливость, занимать у него деньги, льстя ему и подделываясь без особого труда под его археологические вкусы. На этот раз мне опять удалось то же самое и в гораздо больших размерах. Нагибин достал где-то очень редкое иллюстрированное издание «Секретный Помпейский Музей». Я начал объяснять ему, почему эти, по-видимому, бесстыдные изображения помпейских жилищ не производят на человека со вкусом и нравственным чувством того возмутительного впечатления, которое производят на него цинические картины нашего времени. Я доказывал ему (конечно, не без основания), что сравнительное целомудрие и изящество древнего сладострастия происходило от того, что было освещено как бы косвенными лучами самого религиозного начала, господствовавшего в греко-римской жизни, и потому самые бесстыдные изображения были чужды того цинического юмора и той грязной грубости, с которою приступают ко всему подобному люди нашего времени (и особенно гадкие эти французы) вопреки Христианству…
– Растлением античного мира, – сказал я, – как будто бы правили благородные демоны Мильтона и Лермонтова; современным развратом правит отвратительный Мефистофель. В нравственном отношении, – прибавил я, – быть может, это и лучше, так как есть умы и сердца, которые, отвращаясь от грязи и цинизма, легко поддаются тонкому обаянию плотской эстетики. Но в отношении искусства – совсем иначе.
Вячеслав Петрович был в восторге от моего объяснения и спросил:
– Отчего вы об этом не напишете?
– Куда мне писать! – отвечал я. – Я мог бы писать в хорошей обстановке, я не хочу быть похожим на газетного скромного труженика… Это очень обидно. А тут денег нет никогда! (Я еще раз сознаюсь, что у меня тогда были большие и самые разнородные претензии.)
– Сколько вам теперь нужно? – спросил Нагибин, – скажите откровенно…
– Рублей двести, – отвечал я, – но вы мне столько раз уже давали; про вас говорят все, что вы скупы на все, кроме ваших этих редкостей…
– Вы тоже редкость! Я и еще вам дам; вы мне те заплатили, – сказал он любезно и пошел доставать из своего бюро деньги, которые я долго, очень долго потом не в силах был ему возвратить.
За эту вину мою Нагибин был одно время на меня основательно сердит; но это случилось гораздо позднее, а в те дни, которые последовали за моим неожиданным и столь удачным займом, Нагибин был доволен мною, а я совершенно счастлив.
Я оделся хорошо, так хорошо, что переход от «белых кителей» был уж слишком резок и бросался всем в глаза.
Товарищи шутили, но так мило и не зло, что их ласковые насмешки не только не оскорбляли меня, но даже усиливали мое удовольствие.
Первый секретарь посольства сообщил мне с улыбкой будто бы все иностранцы спрашивают:
– Кто этот молодой и элегантный консул, который давеча вышел из ворот русского посольства? Кто это? Кто это?
– Непременно консул. Отчего ж не секретарь посольства? – спросил я.
И прибавил:
– Вы верно не находите меня этого звания достойным? Какой-нибудь оттенок?..
– Мы, секретари, люди мирные, люди пера, – отвечал с улыбкой первый секретарь, – а у вас усики так припомажены и подкручены, что всякий примет вас за консула. Ex ungue leonem!.. Консула люди воинственные; они считают долгом все разносить, чтобы доказать величие русского призвания на Востоке…
Меня это объяснение восхитило своею тонкою ядовитостью… Один из драгоманов (тот самый, который так жаждал видеть меня хорошо одетым) обнял меня и воскликнул:
– Наконец-то моя мечта осуществилась… Молодцом! молодцом… Поздравляю, голубчик… Поздравляю!
Янинский консул Благов, с которым мы были «на ты» и знакомы с детства и который только что приехал в отпуск, хотел сочинить стихи на мое новое платье… (Он писал иногда очень хорошие эпиграммы и сатиры.) Но, по его собственному уверению, было так нестерпимо жарко, что злая муза его дремала и он дальше одного стиха не пошел:
Тому цвету Bismark изумлялся народ…
Замечу, что я по всегдашнему расположению моему подозревать в людях скорее доброе, чем худое, не поверил, что Благов изнемогает от жары, приписал неудачу его стихов высокому чувству самой тонкой доброты; я думал, что он не хочет даже и легкою горечью приятельской насмешки отравить ту почти отроческую радость, которую он мог предполагать во мне… Да я ее и не скрывал!
Самой надменной советнице нашей я сказал:
– Теперь я вас буду меньше бояться!
– Смотрите не ошибитесь, не будет ли хуже? – возразила она довольно благосклонно.
Однако ничего худшего не вышло ни от нее, ни от Других, и мне оставалось только найти случай познакомиться с мужем Антониади. Этот случай представился сам собою раньше, чем я ожидал. Дело было вот как. Мы ждали приезда нового посланника в Буюк-Дере. Два дня продолжалась ужасная буря. Страшно было подумать, как плывет он теперь по Чорному морю из Одессы с семьей?.. Но в самый день вступления маленькой «Тамани» в Босфор погода разгулялась; пролив стал синий и ровный; все утихло и приняло праздничный вид. Стало так хорошо, что один из сослуживцев наших с завистью воскликнул: «Этому человеку (посланнику) на роду написано счастие! Даже и погода для него разгулялась!»
Поверенный в делах и все чиновники посольства готовились встретить начальника, надели фраки. Было дано уже как-то знать, что «Тамань» вступила в пролив. Я не принадлежал к посольству, не искал присоединиться к этой свите, хотя бы мне никто, конечно, этого бы не запретил.
Не знаю и не помню почему, я предпочел пойти на квартиру того казначея Т., который так сердился на неожиданно умершего болгарина, и смотреть оттуда на въезд и встречу из окна. Т. сам, приглашая меня воспользоваться его окнами, отворенными прямо на прекрасную набережную Буюк-Дере, предупредил меня, что я найду у него гостей.
– Un certain Antoniadi Chiote.[1 - Уроженец острова Хиоса.] Brave homme quant au fond; mais anglomane comme un sot! – сказал он с мрачною энергией и прибавил подмигивая: – Possеdant du reste une femme, une jolie femme, dont vous me donnerez des nouvelles, je veux bien l'espеrer! – И притопнув значительно ногой, толстяк надел круглую шляпу и удалился поспешно, потому что поверенный в делах его давно ждал.
Я пошел к нему на квартиру и увидал там этих «гостей».
Была тут одна пожилая, почтенная дама; гречанка тоже и, как сам хозяин, римского исповедания; двоюродная ему сестра; не знаю, почему-то она давно уже носила траур. Я ее знал и прежде, и мне очень нравилась ее приятная и благородная наружность. Седые волосы и бледное лицо; плавная и величавая походка, чорная одежда печали и тонкие черты лица, милая моложавая улыбка, несколько лукавая – все это вместе располагало меня к ней, хотя я встречал ее редко и еще реже имел случай с ней говорить.
Она сидела на диване рядом с другою дамой, тоже не молодою.
Эта другая дама была совсем иного рода. Я ее видел в первый раз. Одета она была недурно и сообразно с годами и держала себя очень скромно. И несмотря на все это, в ее наружности было что-то подозрительное, приторное и отталкивающее. Она была очень бела, бледна и несвежа; волосы ее были светлы, как лен, черты лица неправильны и некрасивы; губы тонки, а веки очень красны. Она придавала себе сентиментальный вид. Взглянув на нее, я разом вспомнил о трех очень далеких друг от друга образах – о белом кролике с розовыми глазами, о какой-нибудь несчастной, никем на свете не любимой и некрасивой старой девушке и еще о начальнике султанских не чорных, а белых евнухов… мне хотелось поклониться ей и сказать:
– Здравствуйте, m-lle Кызлар-агаси!..
Но она была не девица, а вдова из Одессы, приятельница г-жи Антониади, безо всякого определенного общественного положения.
– Madame Игнатович, ваша соотечественница, из Одессы, приятельница madame Антониади, – сказала кузина хозяина, знакомя меня с ней.
И фамилия эта самая, Игнатович, была такая неопределенная, она могла быть и польскою, и сербскою, и малороссийскою, и даже великорусскою, все равно.
Эта женщина возбудила во мне к себе сразу отвращение…
Пред этими двумя дамами, привлекательною и ужасною, сидевшими рядом на диване, качался тихонько на качалке бледный как воск брюнет с густыми и длинными чорными бакенбардами и с цилиндром в руке. Это был сам Антониади, – «Chiote; bon homme, quant au fond…»
Жена его сидела у окна и, облокотись на подоконник, смотрела на Босфор, за которым зеленел азиятский берег.
Она сидела, одною рукой облокотившись на окно, а другою обнимала дочь свою, девочку лет семи. И в одежде дочери была видна душа изящной матери. Девочка была одета очень мило, в белом кисейном с зелеными горошками платье и в шляпке, украшенной колосьями, васильками и пунцовым маком; но лицом она была нехороша и больше походила на отца, чем на мать.
Кузина хозяина подала мне руку и познакомила меня со всеми.
Когда мадам Антониади обернулась и глаза наши встретились, не знаю почему, я до сих пор не в силах объяснить этого… не знаю почему, сердце мне сказало что-то особое…
«Она будет любить тебя».
Или: «Она тебе не будет чужою…»