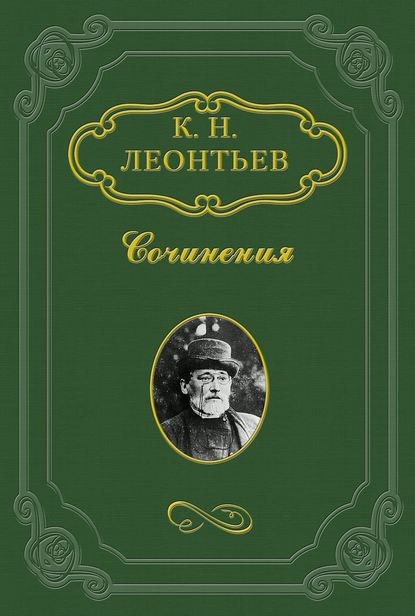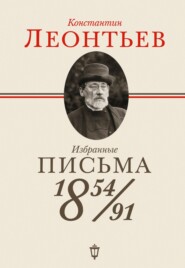По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя литературная судьба. Автобиография Константина Леонтьева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Итак, славяне, по-вашему, для нас опасны, а греки наши естественные союзники. С точки зрения правительства нашего вы правы; оттого-то ваша статья и понравилась им в Петербурге…»
(Говоря это, князь Черкасский все лукаво поглядывал на Аксакова.)
– Я потому не забочусь о славянах, что и без меня есть кому говорить много о пользе сближения с ними; что ж мне делать, если я боюсь всеславянской демагогии и если я нахожу, что и для славизма необходимы охранительные начала.
Князь Черкасский заметил на это:
– Охранительные начала есть разные. Если я буду, напр., потворствовать константинопольскому патриарху, то еще понятно, что это может назваться поддержкой тех охранительных начал, которые нам свойственны; но охранение папства, напр., может служить поддержкой революционных сил в России. Или если вы, напр., не сочувствуете теперешнему status quo, т. е. реформам так называемым либеральным, то вы скорее революционер, чем охранитель.
Я отвечал на это, что не имею такой привычки, как он, к публичным прениям и потому, может быть, не сумею хорошо поддержать против него свои мнения; что статья «Панславизм и греки» очень мала, но если мне удастся напечатать то, что я теперь привез с собой, тогда будет, я надеюсь, виднее, почему именно я вообще опасаюсь западных и южных славян и в особенности болгар в церковном вопросе…
В той статейке, о которой он говорит (прибавил я), я не мог и развить вполне мою мысль, потому что я знал, что пишу для Каткова…
Князь Черкасский с улыбкой пожал плечами и сказал: «А! мы этого и знать не обязаны! Мы судим только напечатанное…»
– Вы правы с вашей точки зрения, – сказал я, – но и я имею свои оправдания и, повторяю, многое, может быть, станет яснее, если я напечатаю другие мои вещи… Тут есть система, верная или нет, но только совсем особая, которую я теперь объяснить не могу… сказал я.
Все, даже и обе дамы (Аксакова и Баранова), молча слушали нас; я не хотел больше продолжать спор, который по вышеизложенным причинам был мне вовсе не выгоден, но остался очень доволен любезным и, так сказать, гостеприимным тоном, с которым препирался со мной этот энергический хитрец, один из заглазных и лично незнакомых любимцев моих в России. Я его любил отчасти за деспотизм, который он обнаружил в Польше, и еще более за прекрасный ответ на славянском съезде этому Ригеру, который задумал было защищать поляков на обеде… «Не стоит так много говорить о нескольких привислянских губерниях», в этом роде, если не ошибаюсь, хватил его этот русский князь с лицом какого-то кипчакского мурзы…
Аксаков тут же поддержал меня, говоря:
– Теперь я читаю в рукописи чрезвычайно интересное сочинение К. Н-ча «Византизм и славянство». Особенно любопытно читать труд человека, который, понимаете… 10 лет сидел в Турции и думал… Это сейчас видно. Видна свежесть мысли. Видно, что человек пишет совершенно вне наших здешних условий и привычек, не думает ни о цензуре, ни о других препятствиях… Между прочим, г. Леонтьев говорит совершенно верно: «Славянство есть, славизма нет». Есть китаизм, германизм и т. д. Такого отвлеченного славизма, взвинченного над славянством, как там очень удачно сказано, он не видит.
На этом кончился разговор о моих сочинениях, который занял порядочную часть вечера и который я и сам не прочь был прекратить, ибо с меня и этого было достаточно для успокоения за будущее мое положение в этом, конечно, более всех других порядочном и облагороженном литературно-ученом кругу.
Я был доволен, несмотря на все возражения. Пожалуй, даже и возражениями был вдвойне доволен и потому-то ни одно из них не поколебало меня внутренне, и все дали только случай, яснее проверив себя, сказать себе: Только-то? Ну, это не страшно… и еще потому, что я вовсе и не искал быть простым прихвостнем старых славянофилов, несмотря на все мое уважение к их взглядам, и трудам, и идеалам; вовсе не думал о том, как бы сжаться, чтобы угодить им лучше. Я готов скорее сжаться для Каткова, ибо считал его всегда чужим, перед которым надо по необходимости обрезывать себя, чтобы провести хоть часть своих идей… А на славянофилов я надеялся как па своих, как на отцов, на старших и благородных родственников, долженствующих радоваться, что младшие развивают дальше и дальше их учение, хотя бы даже естественный ход развития и привел бы этих младших к вовсе неожиданным выводам, хотя бы вроде моего: «Тот, кто хочет культурного славянофильства, своеобразия или славянообразия, – должен опасаться политического панславизма, ибо он будет слишком близок к эгалитарно-республиканскому идеалу, к Западу, и без того давно пожирающему нас духовно; для достижения своей цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами и охранять крепко все греко-византийское, чем любезничать с Ригерами, Наперстками, Смолками, Фитами» и т. д. Позднее я увидал, что именно от Аксакова я такой paternite[9 - Отеческое отношение (фр.).] не увижу, а скорее от старых стариков Бодянского и Погодина. Но первым знакомством моим с редактором «Дня» и «Москвы» я был очень доволен.
Для меня при недостаточности моих денежных средств в эту зиму и вообще при затруднительном моем положении было очень важно заметить, как со мной обращаются и поступают все эти люди, имеющие больше моего денег, известности и влияния. Понятно всякому, сколько может сделать пользы иногда в удачную и выгодную минуту одно какое-нибудь слово хорошей или дурной рекомендации… и потому именно, что это слишком понятно, я особенно об этом распространяться здесь не буду; я упомянул об этом только потому, что хотя я очень самолюбив и даже иногда до крайности тщеславен, но когда касается до моего ума и литературных способностей, то сознаюсь, в них-то я так уверен, что гордость моя уже мало и места оставляет тщеславию или жажде одобрения… Только в самые последние года, когда я впервые почувствовал глубоко, что смерть моя уже наверное не за горами, я стал мелочнее и на счет литературы; я стал больше прежнего дорожить моим положением как литератора; прежде я дорожил больше мнением какого-то незримого гения чистой красоты, который парил вокруг меня в те часы, когда я думал, писал и перечитывал написанное мною; я больше чтил это незримое воплощение собственных критических вкусов моих, чем мнение того или другого писателя или редактора. Я знаю, как ошибочны и как еще чаще неискренны и рассчетливы эти мнения.
Теперь, когда внутренние силы стали слабеть в неравной и долгой борьбе, когда разнородные бури души моей износили преждевременно мою от рождения несильную плоть, когда я, просыпаясь утром, каждый день говорю себе memento mori[10 - Помни о смерти (лат.).] и благодарю Бога за то, что я жив, и даже удивляюсь каждый день, что я жив, тогда как бревенчатые стены моего флигеля все увешаны портретами стольких покойников и покойниц, несравненно более крепких при жизни, чем я… Теперь, когда мне нужны деньга не для того, чтобы дарить пятичервонные австрийские золотые на монисто какой-нибудь янинской шестнадцатилетней турчанке, не для того, чтобы с целой свитой скакать по горам и покупать жене обезьян и наряды, лишь бы только она не скучала и не мешала мне делать, что хочу… но для того, чтобы сшить себе дешевые сапоги, чтобы купить жене калоши, чтобы голод, наконец, не выгнал меня и близких моих отовсюду, из монастыря или из самого моего Кудинова на какую-нибудь работу не по силам и вкусу… Теперь я смирился, если не в самомнении, то, по крайней мере, в том смысле, что сила солому ломит… и что прежним величавым удалением среди восточных декораций, прежней независимостью я уже ничего не сделаю… Я смирился литературно в том смысле, что иногда… даже… (каюсь, каюсь и краснею этого чувства…) я подобно другим желал бы быть членом обществ разных, принимать участие в юбилеях, в чтениях публичных, над которыми я всю жизнь мою так смеялся и которые так презирал за то, что только у одного лишь Тургенева находил наружность приличную для публичной поэзии.
Я вижу, что разные Аверкиевы, Авсеенки и т. п., живя как все и обивая пороги редакций, составили себе хоть какое-нибудь имя и положение. Они литературные utilitee[11 - полезности (фр.)], и хотя согласие помириться на подобной немощи и возможность хотя бы мгновенной и преходящей зависти к подобным посредственностям я считаю в себе лишь признаком усталости, минутами малодушия и эстетической изменой, хотя я уважаю гораздо больше себя прежнего, себя удаленного и брезгающего медленным выслуживанием в литературных кружках, однако… сказал я, что делать! сила солому ломит. Мне нужно жить, наконец (т. е. существовать), и у меня есть обязанности… Вот что я хотел сказать, вспоминая о том, что я больше прежнего стал беспокоиться о том, как примет тот или другой из г. г. литераторов Право! студентом даже я был на этот счет равнодушнее и спокойнее. Смолоду я даже жалел беспрестанно то Каткова, то Кудрявцева, то мадам Сальяс, то, пожалуй, и самого Грановского изредка, соболезновал, думая, как им должно быть жалко и больно, что они не я, что они не красивый и холостой юноша Леонтьев, доктор и поэт с таким необозримым будущим, с такой способностью внушать к себе любовь и дружбу и т. д.
Студентом и молодым доктором в великом признании своем я был до того уверен, что нередко и пренебрегал им, медлил, жег и рвал беспрестанно написанное, по два года сряду не брал в руки пера и нередко гордился больше ловкой ампутацией или удачным излечением какой-нибудь упорной сыпи, успехами в верховой езде или победой над женщиной, чем похвалами, которые слышал своим литературным начинаниям от Тургенева, мад. Сальяс и других. В этом я был уверен; в практических занятиях моих, в хирургической ловкости, в эквитации моей, в красоте телесной (и в симпатии женщин) я часто сомневался… и хотел достичь большего и большего… Я хотел тогда быть во всем хоть сколько-нибудь доволен собою. Не напечатавши еще ничего, кроме двух посредственных повестей, я жил смолоду и потом до последнего времени, как будто бы пресыщенный славой человек, как Фридрих П-й, который иногда больше заботился о своих французских стихах, чем о победах. Не победить, не разбить русских, австрийцев и французов он не мог… «Но… вот что важно, думал он, что-то скажет Вольтер о моих стихах?..»
Так думал Фридрих.
Не написать замечательной вещи я не могу… думал я смолоду. Но что подумала Любаша (напр.), когда подо мной лошадь вчера взвилась три раза на дыбы, как свечка… А я не обратил на это как будто и внимания?.. О! я напишу еще много, много, успею!.. Но что ж думает доктор NN… он думает, что только он один практический человек? Что я не сумею счастливее и смелее еще его вправить этот вывих или вскрыть этот абсцесс? Я докажу ему, что он ошибается.
Позднее то же самое думалось часто и на дипломатической службе.
Конечно, если рассматривать дело только с той точки зрения, что мне нужно было обеспечить и устроить себя чем-нибудь житейским для того, чтобы и в идеальном труде было свободнее, я, конечно, хорошо делал, что вел, и будучи врачом и будучи консулом, дела так, что меня предпочитали нередко людям так называемым чисто практическим (не знаю почему – надо бы сказать глупым, лукавым или сухим); я и пишу обо всем этом не столько в укор себе, сколько в укор другим литераторам и обстоятельствам. По идеалу я тогда был правее, чем теперь; но неправота других понудила меня, наконец, к уступкам и к согласию с горя влачиться, если уж нужно, и по этой битой и опошленной дороге столичного литераторства. Я говорил уже, что готов был взяться даже и за редакторскую деятельность, которую вовсе не уважаю и не люблю, если бы условия были бы очень выгодны. Бог спас меня.
Вот что я хотел сказать.
К следующему аксаковскому четвергу статья моя почти вся была им уже прочтена, за исключением нескольких последних страниц или последней главы, где я говорю о том, почему мы должны остерегаться юго-западных славян и в особенности болгар в их церковном с греками вопросе.
К первому четвергу Аксаков прочел только все первые главы о том, что нет славизма, но есть обруселый византизм, лучше которого и с культурной, и с государственной точки зрения ничего уже не выдумаешь. Ко второму он кончил видимо все изложение моей гипотезы триединого культурно-органического процесса. Он был уже не тот; не только его взгляды на мой труд и даже тон его личного обращения со мной изменились к худшему.
Рукопись моя лежала раскрытая на его столе.
– Я прочел ваш труд, – сказал он, – мне осталось дочесть очень немного. Повторяю, все это очень умно, остроумно, в высшей степени оригинально; изложено прекрасно… Но есть вещи, с которыми никакой возможности нет согласиться. Во-первых, вы относитесь к христианству не как к вечной и несомненной истине откровения, а как к обыкновенному историческому влиянию[12 - Я и ему не возражал на это и здесь не стану долго объяснять. Бог и духовники мои пусть судят, кто из нас лично более христианин: я или Ив. Сергеевич. Я знаю только то, что я не позволю себе вносить ничего своего в церковное учение и готов подчиняться всему, что велит духовенство, призванное по слову самого Христа вязать и разрешать нас. До нравственных качеств моих начальников мне почти и дела нет, когда я ищу духовного совета или подчиняюсь их распоряжениям, а Аксаков говорит, что для него Филарет не был авторитетом, что Герцен и Егмбетта для него более христиане, чем, напр., нынешний московский епископ Леонид. Хорошо православие! Прибавлю еще, что если бы я видел в наше время человека мало-мальски религиозного и нуждающегося, каков был я перед очами Аксакова в Москве, так я, если бы рубашку с себя не снял бы для него, то уж конечно с жаром помог бы ему. Я это доказывал при всей нужде своей не раз. А Ив. Сер. что-то и слова не промолвил о какой-нибудь материальной мне помощи Он мог бы устроить для меня многое. Впрочем это судить трудно, а может быть я и грешу. Да простит мне Бог, если я ошибся.В статье же моей, понятно, что я нарочно отстраняю мое личное православие и хочу стать на такую точку, став на которую всякий бы мыслящий буддист, китаец, турок и атеист понял бы, что такое православие для России, славян и Европы.]. Потом вы проповедуете необходимость юридических перегородок, привилегий сословий, которые у нас, слава Богу, разрушены. Неравенство будет и должно быть всегда, но достаточно того, что один богат, а другой беден, один умнее, другой глупее и так далее[13 - Чем же это отличается от западной буржуазности!]. Вы говорите (продолжал он все более и более разгорячаясь и даже краснея)… вы говорите: «наслаждение мыслящим сладострастием» и… и дальше даже приводите римскую языческую пословицу «quod licet Jovi non licet bovi» (что прилично Богу, то нейдет волу), или что прилично изящному и могущественному человеку, то вовсе не к лицу нынешнему буржуа.[14 - Я писал это по поводу того, что нынешняя всесветная, нескладная, неинтересная, неромантическая roture тоже хочет не только существовать скромно, как существовали ее суровые и честные праотцы, а наслаждается жизнью и даже развратничает вовсе не к роже; я так и говорил дальше; «ибо, что еще пристало Алкивиаду, Montmorency или Потемкину Таврическому, то вовсе нейдет какому-нибудь Шульцу, Успенскому, Dubois, Labrossee, Laracaille и т. д.» Чем же я виноват, что это правда, чем виноват, что это такая же научная истина, такой же эстетический факт, как и то, что жасмин и роза пахнут лучше смазных сапог или шпанских мух! Ученый, который заявил бы как факт, что олень и лев красивее, прекраснее свиньи и вола, не возмутил бы никого; отчего же тот писатель возмутителен, который позволяет себе сказать, что Вронский в «Анне Карениной» несравненно изящнее и, говоря языком Гомера, боговиднее того профессора, который спорит с братом Левина?.. Не понимаю. А сколько есть ученых и не очень ученых буржуа, чиновников, адвокатов и т. д., которые даже и не так уж худощавы и не так тупо научны, как этот философ Льва Толстого… и которые поэтому еще бесцветнее, еще непоразительнее его… Беда мне с этим культом простых и честных людей, который у нас так завелся! Моя языческая пословица настолько же не противоречит всеобщему христианству, насколько общие физиологические свойства животных, их дыхание, движения и т. д. не противоречат их сравнительной эстетике. Христианство не отвергает как факты ни аристократичности, ни телесной красоты, ни изящества, оно игнорирует их, знать их не хочет… И потому христианин, оставаясь христианином вполне, может рассуждать и мыслить вне христианства за его философскими пределами о сравнительной красоте явлений точно так же, как может он мыслить о сравнительном законоведении или ботанике… Я скажу больше: есть множество людей до того не изящных, до того прозаических, некрасивых, неумных, пошлых, тошных, каких-то ни то ни сё, что они мыслящего христианина располагают скорее к богомыслию, чем удаляют от него; невольно думаешь: «лишь бессмертный дух, который таится в этой жалкой, бедной, кислой, mauvais-genre оболочке, лишь только закон его загробного существования, лишь его незримые отношения к незримому божеству могут дать разгадку этим столь многочисленным и, к несчастью, столь реальным явлениям, как, напр., мадам Белоцерковец, Максимов и т. д. Я не шучу нисколько. Именно потому-то и говорится, что перед Богом все равны, что здесь-то на земле разница между Байроном и Амиаблем, между Бисмарком и Гумбухианом еще слишком велика, вопреки всем стараниям благодетельного прогресса, пытающегося уже давно принести в жертву всех Байронов и Бисмарков Гумбухианам и Amiabl'ям, всех этих tenore di forza u tenore di grazia aux hommes utiles et laboriaux (Певцов силы и грации – людям полезным и трудолюбивым)… чтобы не сказать хуже… А что перед Богом Гумбухиан меньше ответит, чем Бисмарк, это очень возможно и утешительно… Неужели Аксаков этого не понимает?]
Поневоле вспомнишь Павла Голохвастова. Мы с ним виделись летом, перед этой зимой, у Шатилова в тульской деревне последнего, и он, говоря со мной о статьях моих, сказал мне: «Лучше всего вам будет обратиться за помощью к старику Погодину. Черкасский человек очень хитрый… он все сообразуется с обстоятельствами… А Иван Аксаков… я не знаю, как сказать… Странно было бы такого человека назвать глупым, – однако я не нахожу другого слова… Просто перейдя за известную черту, – он становится глуп».
Итак, Аксаков:
– Quod licet Jovi, non licet bovi![15 - Что подобает Юпитеру, не подобает быку! (лат.)] – продолжал он с честным негодованием, краснея в лице… – Языческая пословица; вы, однако, защищаете православие… Это, наконец, не научно… вы требуете научного отношения к жизни, а это разве научно? Разве это не пристрастие? (хорошо, пристрастие сказать, что князь Цертелев красивее, ловчее и остроумнее, чем Перипандопуло). Христос равно для всех сошел на землю… (выходит по Аксакову, что Христос пришел на землю для того, чтобы дельный, жирный приземистый, пучеглазый Amiable, которого так уважает Хитров, взял бы себе в Париже трех любовниц на деньги, которые он заработал в мошенническом процессе какого-то тоже… Хиана… забыл… И чтобы таким образом Amiable этот имел бы равные эстетические и нравственные права с красавцем и героем юношей Дон-Жуаном. Прекрасно и научно, нечего сказать).
– Потом, – продолжал Иван Сергеевич, – вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека… У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный… Поэтому о чем же хлопотать? Зачем писать… Вы – Иеремия, плачущий над развалинами…
– А разве Иеремия не писал? – спросил я.
Аксаков никак видимо не ожидал этого соображения и замолчал вдруг; он забыл, что Иеремия писал. Напомнив ему об этом, я попросил его посмотреть поскорее, пока не собрались гости, 2–3 последние страницы, где говорится о болгарах. Он согласился охотно, и я тотчас же прочел ему это место. Вот оно:
«Болгаре слабы, болгаре бедны, болгаре зависимы, болгаре молоды, болгаре правы, наконец», – скажут мне.
Болгаре молоды и слабы..
«Берегитесь, сказал Сулла про молодого Юлия Цезаря, в этом мальчишке сидят десять Мариев (демократов!)»
«Опасен не чужеземный враг, на которого мы всегда глядим пристально исподлобья, страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо окровавленную перчатку старой злобы…»
«Не немец, не француз, не поляк – полубрат, полуоткрытый соперник».
«Страшнее всех их брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, если он заражен чем-либо таким, что при неосторожности может быть и для нас смертоносным».
«Нечаянная, ненамеренная зараза от близкого и бессильного, которого мы согреваем на груди нашей, опаснее явной вражды отважного соперника».
«Ни в истории ученого чешского возрождения, ни в движениях воинственных сербов, ни в бунтах поляков противу нас мы не встретим того западного и опасного явления, которое мы видим в мирном и лжебогомольном движении болгар. Только при болгарском вопросе впервые с самого начала нашей истории в русском сердце вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность – племенное славянство наше и византизм церковный…»
«Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел как будто нарочно таковы, чтобы сделать наше лучшее общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытства было меньше, чтобы последствия застали нас врасплох, чтобы все самые мудрые люди наши дали бы угаснуть своим светильникам…»
– Вот видите, – воскликнул он, – положим это и правда. Да мало ли что правда. Так нельзя писать для печати… Разумеется, болгаре неправы, это бесспорно… Но ведь и греки солгали духу святому.
На этом наша беседа остановилась. Начали сбираться другие гости, и мы вышли в гостиную.
Я очень мало возражал Аксакову во все время этого tete-a-tete. На этот раз говорил все он и с большим жаром. Я, помню, упомянул как-то о государственной необходимости. Он вспыхнул и сказал: «Черт возьми это государство, если оно стесняет и мучает своих граждан! Пусть оно гибнет!» Я, говорю, почти не возражал; с первых слов его я понял, что между нами та бездна, которая бывает часто между учителем и учеником, ушедшим дальше по тому же пути. Добрый ученик продолжает чтить учителя, не уступая своих новых и часто неожиданных выводов, но учитель не негодует на эти выводы, может быть именно потому, что он полусознательно улавливает логическую нить, которая ведет к этим неприятным ему результатам от его же собственных начал.
Как скоро я это заметил, я стал тотчас же равнодушен к тому, что Аксаков, собственно, думает о достоинстве моего труда, а все мое внимание устремилось лишь к практическому вопросу: поможет ли он мне напечатать его или нет?.. Пусть он ненавидит и презирает, только пусть напечатает как-нибудь. «Бей, только выслушай или дай другим выслушать…».
И о том, что я сказал так длинно в скобках, то есть об отношениях церковных к Перипандопуло и Амиаблям, я ему упомянул в свое оправдание каких-нибудь два слова и о болгарах, и вообще о власти и сословиях не спорил; а что я смотрю на христианство только как на историческое явление (на Византии), я полагаю, и отвечать вовсе не стоило.
Позднее, когда собрались гости, я занялся с неким Кар-Заруцким, который печатал статьи в «Гражданине»; он занимается теперь в особенности старокатолическим делом, Деллингером и т. д. Я слушал очень охотно его изложение; а Аксаков передавал целому кружку, собравшемуся около него, впечатления, вынесенные Юрием Самариным из его последнего пребывания в Германии. Речь была о том, что прежняя нравственность германской жизни давно уже портится. Что народ глубоко развращен, утратил религиозность и что его зверские, разрушительные инстинкты сдерживаются теперь лишь силою и страхом. Благонравие же во многих семьях образованного класса держится нравственным капиталом, прежде накопившимся под влиянием христианских принципов. Аксакову возражал один ужасно жиденький и не авантажный юноша (кажется какой-то Толстой). Он возражал горячо, но как-то трепетно, взволнованно и опустивши очи свои долу от стыда и сознания своей дерзости.
Он говорил, что быт образованных классов в Германии очень нравственен и это доказывает, что общество и без религии может быть нравственным. Ибо несомненно, что в Германии теперь религия слабее, чем, напр., во Франции.
Аксаков на это сказал ему с вежливо отеческим оттенком: я не буду говорить теперь о безусловном достоинстве христианства. Речь идет лишь о тех государствах и обществах, которые вышли из христианства и устроились на нем. Этим-то обществам грозит гибель, когда они откажутся от христианского авторитета.