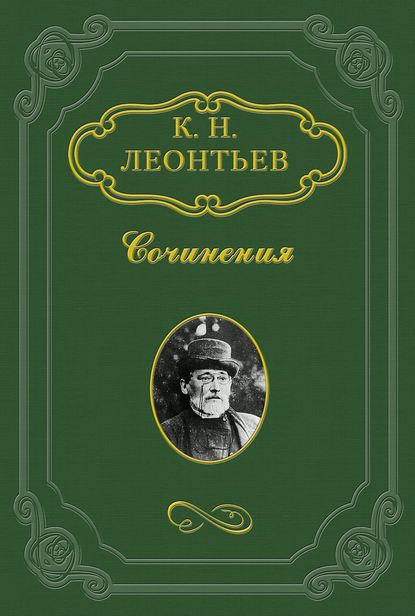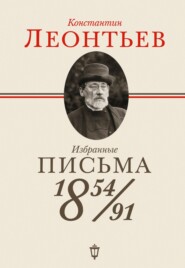По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь мужа (Ай-Бурун)
Год написания книги
1867
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Заря занималась, когда мы уехали. Лиза заснула, заснула в коляске; а я был так взволнован печальными воспоминаниями, мыслями об ней и о моей собственной судьбе, что и дома уснуть уже не мог.
Лиза встала поздно и целый день была грустна; после обеда она позвала меня за город. Мы уехали в сад Княжевича, один из лучших в этом зеленом поясе садов, который широко вьется за Салгиром – посреди нагой степи.
Лиза не отходила ни на минуту от меня, держала меня за руку и все твердила:
– Тут лучше! Тут лучше! Поедем домой, к Христинье.
– Зачем так скоро? – спросил я с удивлением, – еще потанцуешь, еще увидишь народ.
– Не хочу. Я не буду больше по вечерам ездить… Душно потом.
– Это в первый раз, Лиза; попробуем еще. Таких случаев долго не будет. Южный берег опустел и когда-то оживится!
– Нет. Уедем домой!
Я знаю, что значит, когда она твердит одно и то же. Она редко противоречит мне, и наша жизнь была так устроена и однообразна, что и спорам не было причин. Я убеждал ее в чем-нибудь, и она слушалась; но если она стала так твердо на этом «уедем! уедем!» – надо ехать. Иначе целую неделю будет молчать, тосковать и отдаляться от меня.
И в самом деле, здесь и мне тяжело.
Пока Лиза утром еще спала, я пошел проведать одного пожилого ополченца, разоренного помещика той губернии, в которой я родился. Я на днях, мельком, увидал его больного и обвязанного в пролетке, по дороге к госпиталю. Было время, я проводил у него дни и ночи. У него было пять дочерей и три сына; дочери были почти все недурны, а я был студент. Потом я узнал, что он разорился и поступил с горя в ополчение 50-ти слишком лет.
Прихожу я в главный госпиталь. Говорят, «кажется, сегодня ночью или утром умер; посмотрите в часовне». Зашел в часовню. Стоят целым рядом солдатские гробы закрытые; свечи горят перед иконами. В соседней комнате вскрывают кого-то доктора; один говорит другому: «Вот селезенка так селезенка! Посмотрите! Это идеал селезенки! Что значит свежий человек из России. А наши-то селезенки на береговой линии, что за объем, что за консистенция!.. Я забыл там, какая это бывает нормальная селезенка!»
Я заглянул туда; один из них, молодой, почти дитя, белый, розовый, кудрявый, дерзко облокотился на труп, держит в руке что-то чорное и кровавое и любуется; другой пилит череп мертвецу и кричит на фельдшера, чтобы крепче держал, чтобы не моталась голова туда и сюда. Я спросил, не капитана ли К-го они вскрывают.
– Нет. Что вам угодно? – надменно отвечал кровожадный хирург.
Я хотел уйти; но в ту минуту два солдата внесли труп моего капитана и положили его в угол на землю. Какое жолтое, налитое лицо! Знакомые морщины были как будто разглажены… И, что ужаснее всего, челюсти его были подвязаны пестрым шарфом, который был мне знаком 20 лет тому назад. Шарф тот дала мне тогда вторая дочь его; мы любили друг друга; особенно она меня, но я был ветрен тогда и, уезжая, позабыл ее подарок у них в доме. Говорят, она неутешно плакала при одном взгляде на этот шарф.
Нет, скорей домой! Лиза права. И зато, что за блаженство, когда мы опять поехали мимо Салгира и душистых садов, потом по лесам к Таушан-Базару! Смотрели на аспидную стену Чатыр-Дага, который был у нас вправо. В Алуште мы кормили лошадей, гуляли у моря по песку, любовались на старую башню, вокруг которой ступенями лепятся татарские хижины с навесами и колонками и вьется виноград.
Уже было совсем поздно, когда мы увидали наши огоньки под горою, и Христинью, и кошечку, и все то, что мы обожаем…
4-го августа 1855.
Однако и здесь не без приключений! Третьего дня в соседнюю татарскую деревню приехали вечером четыре казака, напились и заснули. Поутру их нашли на дороге убитыми и ограбленными. Татары клянутся, что ночью наехали неприятели и убили их. Это вздор. Я, конечно, не пристрастен к французам; но армия их, надо сознаться, первая в мiре не только по храбрости, но и по привычке к рыцарскому поведению.
На самих трупах есть признаки, что убийцы азиятского происхождения: трупы обезображены. Издеваться над врагом, убитым во сне, не станут, конечно, ни французы, ни англичане.
Странно, а в мирное время куда как татары приятнее для меня и тех и других!
5-го августа.
Узнали об этом деле за Байдарскими Воротами. Приехало сегодня утром несколько французов и сардинцев. С ними два офицера и еще один молодой грек, лет 20-ти или 22-х, в феске; пальто подпоясано красным кушаком, за кушаком пистолеты. Красив и доброе лицо. Зачем он с ними? Как переводчик? Он ни по-турецки, ни по-русски не знает. Он грек не крымский; это было заметно с первого раза и по феске, и по прекрасному произношению греческого языка. Мсьё Бертран, начальник этого небольшого отряда, представил его мне; он родом с Ионических островов, из хорошей тамошней фамилии – Маноли Маврогенис, или Маврогени. Я пригласил их всех на завтрак. Маврогени с замечательной жадностью смотрел на меня, на Лизу, на все наши вещи. Я не успел спросить у него ничего, и ни разу не пришлось мне с ним быть наедине.
Мсьё Бертран пришел в негодование, когда узнал, что татары осмелились обвинить французов в изменническом убийстве казаков; созвал их, напомнил кстати о пожаре в имении Ш-ва и пригрозил им так, что они обомлели и объявили имена убийц, утверждая, что они скрылись куда-то. Бертран предоставил розыски русским властям, велел при себе прилично похоронить убитых; сказал татарам, что подобные поступки равно противны обеим воюющим сторонам и что при малейшей попытке их к грабежу и разбою он сам заберет их, свяжет и отвезет в союзный лагерь, а там их расстреляют или повесят.
После завтрака он благодарил нас с Лизой и прибавил: «что если он еще не так тронут и удивлен, как бы следовало, так это сами русские виноваты – l'on s'y attend toujours! L'hospitalitе russe est connue!». Мы пошли провожать их в гору; Бертран шел с женою моею впереди под руку и вел изысканный разговор о Париже, о театре, который они устроили в Камыше, о львиной храбрости русских и о дружеском обращении неприятелей во время перемирий. Лиза отвечала ему довольно сухо, и между прочим я слышал, как она сказала: «танцев я не люблю, а в театре никогда не бывала».
Я думаю, он об ней отзовется как о красивой дуре, или, если у него побольше толку, как о полудикой козачке с грубым голосом. И она не слишком хорошего мнения об нем.
15-го августа.
Мсьё Бертран и Маврогени уехали сегодня на рассвете. Они провели у нас опять целый день. Какой славный этот грек! Лихой француз с острыми усами как нарочно ездит с ним, чтобы тот казался еще лучше. Как будто и не глуп, и любезен, и, должно быть, честный малый, и, верно, храбр под Севастополем, знает много – все у него есть… Но отчего же это все так сухо, так казенно, так истаскано?
На деле, все это силы несомненные, до того несомненные, что этими силами, разлитыми в их полках, они победят стойкую и небрежную отвагу наших войск. И мсьё Бертран – француз… француз и только! Все качества его нации налицо и многие из недостатков. Своего бертрановского нет ни искры! Бертран ли он, или Дюмон, или Дюпюи, не все ли равно? Зачем таким людям имена? Их бы звать француз № 31-й, француз № 1568-й и т. д. Какая разница – Маврогени! Какое простодушие, какая искренняя, пламенная молодость во всем, в улыбке, в блеске синих очей, в чорных коротких кудрях, которые падают на лоб, в жажде жить и веселиться! Еще прежде я хвалил его наружность Бертрану, особенно бледно-золотой цвет его лица и кроткого, и лукавого, и веселого; Бертран согласился со мной и сказал: «надо уговорить его, чтобы он привез с собою свой албанский костюм: тогда посмотрите!» И точно, пришлось мне подивиться, как может быть красив человек, когда он одет по-человечески, а не по-нашему! Вошел он в густой белой чистой фустанелле, в малиновой расшитой обуви с кисточками на загнутых носках; золотой широкий пояс, полный оружия; синяя куртка разукрашена тонкими золотыми разводами; длинная красная феска набекрень, и с плеча на грудь падает пышная голубая кисть!
Я вслух пожалел, что не родился живописцем. Бертран обратился к Лизе и сказал: «А я, madame, жалею, что я не женщина, когда вижу его албанцем!».
Лиза покраснела и не отвечала ему. Маврогени был необыкновенно естественен, пока мы его рассматривали. Не скрывал своего удовольствия, смеялся и не был смущен. Понравилось мне также то, что он мало знает и не скрывает своего невежества; на словах как будто стыдится, а лицо веселое. Увидал у меня на стене портреты знаменитых людей и спрашивает: «Это кто?» Это Лист. «Кто такой Лист?» «А тут подписано Ройе-Коллар; что он сделал, Ройе-Коллар?..» «Кто такой Бальзак?» – Странно, – отвечал я, – что вы не знаете ни Листа, ни Бальзака. Про Ройе-Коллара я не говорю – это лицо скромное и серьезное, не для молодых повес…
– Не знаю, говорит, извините! Мне так совестно… А сам и не думает совеститься…
– Mavroguеni est un brave gar?on, mais c'est une t?te un peu f?lеe, – говорит о нем Бертран с высокомерием старшего и глубокомысленного друга.
Стали петь хором по-итальянски; Маврогени фальшивит, смеется и кричит:
– У греков, говорит, мало хороших голосов; для этого надо ехать в Италию.
Увидел мой халат. «Позвольте мне надеть!» Надел, смотрится в зеркало и доволен.
Потом рассказывает, что он никогда халатов не носил и не носит. «Когда был на родине, проснусь поутру – и в море. И плаваю, и плаваю, ныряю, ныряю! Некогда халат надевать!» И, несмотря на все свое ребячество, как он смело и строго остановил Бертрана, когда у того сорвалась одна, быть может, необдуманная невежливость. Я стал рассматривать штуцер одного из их солдат, а Бертран сказал:
– Voil?, monsieur, la bajonette fran?aise qui fait trembler toute l'Europe!
Я не отвечал ни слова и поставил штуцер в угол. Маврогени пожал плечами и заметил ему: «Здесь не бастион, я думаю… идет ли это говорить?..» Бертран покраснел. Потом я из другой комнаты слышал, как они спорили.
– Ты приверженец русских… это известно! Ты слишком молод, чтобы давать мне уроки приличий.
– Да! я русских люблю и тебя люблю. И скажу тебе, нехорошо говорить это русским, когда и без того у них больше тысячи человек выбывает каждый день из строя в Севастополе. Не сердись! ведь мы друзья?
– Прекрасно… мы друзья; но именно из дружбы можно бы было воздержаться от подобных замечаний, пока мы не одни с глазу на глаз…
– Мне было жаль, – сказал Маврогени.
Наконец Бертран воскликнул:
– Eh bien! j'ai eu tort! Je l'avoue!
Маврогени искал случая быть со мной наедине и, когда добился этого, с жаром стал рассказывать мне о своей жажде видеть русских, о своем побеге на войну от родных, об ошибке, которую он сделал.
– Я решился вдруг, – сказал он, – отец и мать мои жили тогда в Галлиполи… я собрал, что мог, денег, сел на первое купеческое судно, и оно привезло меня в Балаклаву к союзникам. Я все думал – лишь бы доехать, а там убегу… Я воображал всех русских великанами, силачами; думал, что они все строгие, набожные; я с ума сходил, чтобы попасть в ваш лагерь. Но пришла мне мысль ехать в Крым только тогда, когда некому было меня довезти, кроме французов и англичан. Попал я на большое купеческое судно. Волов на нем везли для войска. Поднялась буря, и шесть дней носило нас по Чорному морю. Я не унывал: мачты сломались, руль испортился, капитан головой об стену бился; а я все ел, пил и смеялся… и ни разу не подумал, что могу утонуть. Французы за мной следили; бежать не знаю куда, по-русски не знаю; надеялся хоть издали увидеть русских. И когда видел я вдали огни в севастопольских домах, когда пушки ваши стреляли, когда союзники бежали или были разбиты, я был вне себя. Привезли пленных, кричат около меня: «русские! русские!» Я бегу… Вижу – трое. Один казак и два солдата: нехороши собой, ростом невелики. Досадно мне было, что они такие; а еще досаднее, что ни слова не могу им сказать! Все заметили, как я на них смотрел и теперь шагу не могу один сделать. Бертран боялся, чтобы я не пробовал бежать и чтобы не расстреляли; взял меня на поруки, а я дал ему честное слово не перебегать к русским. Но если бы я мог!
– И в Бертрана бы вы стреляли, если бы были свободны? – спросил я у него.
– Нет, – отвечал он, – в него бы не стал стрелять, а в других с удовольствием, особенно в красных дьяволов, в англичан!
Я разочаровал его немного тем, что сказал: «Между русскими и русскими есть большая разница. Народ, правда, набожен, но нравами не слишком строг; а общество вовсе уж не строгого нрава и, к сожалению, не слишком религиозно. Если и есть где строгость семейных нравов, так это скорей в богатом дворянстве, – прибавил я, – а средний круг наш, который образовался не столько выработкой снизу, сколько распадением сверху, скорей страдает распущенностью, чем излишней суровостью семейного начала».