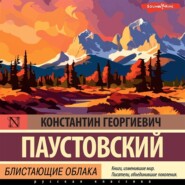По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бросок на юг
Жанр
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запевал: «Чтоб он в манишке щеголял, в руке тросточку держал».
На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а Пошехонье. Ничто его не интересовало – ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе, у мамаши моей, уважаемой Аполлинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек…»
С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы, под назойливое мурлыканье счетовода «Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать».
Потом приехала из России жена Котникова – точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа:
– Почем тут у вас яйца?
Конечно, это было несправедливо, но я сразу невзлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуме совершенно бессмысленно и мне здесь нечего делать.
Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из «Моряка», Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено «порто-франко» и город завален «шикарными товарами» – сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. «В крайнем случае, – писала Люсьена, – можно жевать подвязки».
Кроме Люсьены, в Батуме на Зеленом мысу жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мери.
А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете.
Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум.
Наступал вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком (вывозить из Абхазии табак было запрещено).
Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз – томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и кромешных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила – и, должно быть, навсегда – еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени.
Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами.
А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда.
Пожалуй, последним и трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина.
Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город – живописная толчея башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами.
Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе:
– Красивые, вперед!
В толпе произошло стремительное движение, но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия.
И действительно, на глазах случилось подобие чуда: толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых – юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения.
Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: «Душевно благодарю!» – и его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо гарцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов, так называемого «сазандари» – самого выносливого и бодро-заунывного оркестра в мире.
В плоском порту
Ночью я проснулся. «Ильич» стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают по воде, как плошки, – так низко они горели.
Я забыл, что по пути в Батум «Ильич» должен был зайти в промежуточный порт Поти.
Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Поти было далеко.
С неба редко падали капли дождя – теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах.
Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкой и неожиданной, что даже растерялся.
Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь.
Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье и совершенно не был склонен к угрюмому самоанализу. Я хотел рвать жизнь охапками, как рвут весной сирень, хотел, чтобы мои дни никогда не повторялись и для меня хватило бы всех удивительных людей, стран и событий, какие только существуют на свете.
Но жизнь не по моей вине (вина, очевидно, была, но я ее не понимал) складывалась так, что и разнообразие жизни, и события, и скитания, и множество окружающих интересных людей – все это было дано в изобилии, но не было дано лишь одного – родственных, любимых и любящих людей.
Была мама, Галя, но меня отшвырнуло от них далеко, и мы переписывались так редко и так коротко, будто с трудом перекликались через широкую шумную реку и плохо различали друг друга на затянутых туманом берегах.
Не было дня, когда бы у меня не саднило сердце от этой оторванности и когда бы я вслух не стонал от досады на эту разлуку и от гнева на самого себя.