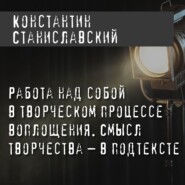По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не смешно ли: человек большого роста, как я, с крепким сложением, с сильными руками и телом, с большим низким голосом, вдруг прибегает к приемам слабенького оперного тенора женственного вида. Можно ли с такими данными, как у меня, смотреть вдаль томными глазами, сентиментально-нежно любоваться своей возлюбленной, плакать! Да и вообще, что может быть на сцене хуже расчувствовавшегося или сладко улыбающегося мужчины!
Я не сознавал еще тогда, что есть мужественный лиризм, мужественная нежность и мечтательность, мужественная любовь и что сентиментализм – лишь плохой суррогат чувства. Я еще не понимал, что самый тенористый тенор, самая нежнейшая инженю-лирик должны прежде всего заботиться о том, чтоб их любовное чувство было крепко, мужественно. Чем нежнее и лиричнее любовь, тем яснее, крепче должна быть душевная краска, эту любовь характеризующая. Рыхлая сентиментальность не только у молодого мужчины, но и у юной здоровой девушки не соответствует ее молодой природе и создает диссонанс.
Вот почему любовные сцены роли пропали в моем исполнении. Но на мое счастье, в пьесе их было немного. Волевые же места ее, в которых сказывалось стойкое убеждение философа, мне удавались, и если бы не следы оперности, оставшиеся еще в довольно значительной степени от прошлого, – было бы совсем прилично.
Обнаружился у меня, однако, еще один большой недостаток, который я не хотел признавать в себе. Я был не в ладу с текстом. Этот дефект не был для меня новостью, он давно уже стал проявлять себя. В ранние годы, как и теперь, он мешал мне отдаваться интуиции и вдохновению, заставляя меня неустанно следить за собой в то время, когда я стоял на подмостках. В моменты творческого подъема память может изменить мне и оборвать непрерывную подачу словесного текста. А если это случится – беда: остановка, прозрачное белое пятно на экране памяти и… паника. Эта зависимость от текста при неуверенности в своей памяти – необходимость в каждую данную минуту контролировать ее сознанием – лишает меня возможности отдаваться моментам творческого подъема с полной свободой и непосредственностью. Когда я выхожу из этой зависимости, как, например, в молчаливых паузах или во время показывания роли на репетициях без заученного текста, на слова, которые сами приходят мне в голову, – я могу раскрываться полностью и отдавать из души все, без остатка.
Как важно для артиста иметь хорошую память. Зачем бессмысленным зубрением в гимназии натрудили мне мою память! Пусть молодые артисты берегут и развивают ее, так как она имеет большое значение во все моменты творчества, особенно же в минуты наивысшего подъема артистического напряжения.
Под влиянием мейнингенцев мы возлагали больший, чем было нужно, расчет на внешнюю сторону постановки, главным образом на костюмы, историческую, музейную верность эпохе и особенно на народные сцены, которые в то время составляли главную новость в театре. Со свойственным мне тогда деспотизмом, не считаясь ни с чем, я забрал все в свои режиссерские руки и распоряжался актерами, как манекенами. За исключением отдельных лиц, вроде талантливого В.В. Лужского и Г.С. Бурджалова, ставших известными артистами Московского Художественного театра, талантливого А.А. Санина и Н.А. Попова, ставших хорошими режиссерами, и кое-кого еще, – остальные любительские силы, которыми я располагал, сами требовали для себя этого режиссерского деспотизма. У кого нет таланта, того приходится подвергать простой муштровке, одевать по своему вкусу и заставлять действовать на сцене по воле режиссера. Бездарных же, особенно если им приходится давать большие роли, надо, для пользы спектакля, умышленно затушевывать. Для этого есть превосходные, как мне тогда казалось, средства, которые я изучил в совершенстве. Они, как ширмы, заслоняют то, что надо скрыть на сцене. Вот, например, во втором акте «Акосты», на празднике у Манассе, надо было прикрыть двух неталантливых любителей, которые вели большую сцену. Для этого я выбрал наиболее красивую даму и кавалера в самых ярких и богатых костюмах и выпустил их на самую высокую площадку, расположенную на видном месте. Кавалер энергично ухаживал за дамой, а она кокетничала. Потом я придумал им целую сцену, которая отвлекала внимание зрителей от действующих на авансцене любителей. Только в местах, необходимых для экспозиции пьесы, я временно укрощал статистов, чтобы дать возможность зрителям прослушать необходимые слова. Не правда ли, как просто? Конечно, режиссера за такие приемы бранили. Но лучше принять на себя вину за чрезмерное старание, чем сознаться в несостоятельности своей труппы.
Кроме того, для успеха пьесы и ее исполнителей необходимы ударные места, соответствующие кульминационным моментам пьесы. Если нельзя создать их силами самих артистов, приходится прибегать к помощи режиссера. И на этот случай у меня было выработано много разных приемов.
Так, например, в «Уриэле Акосте» есть два момента, которые непременно должны запечатлеться в памяти зрителей. Первый из этих моментов – проклятие Акосты, во втором акте, во время праздника у Манассе. Второй – отречение Акосты в синагоге, в четвертом акте. Одна сцена, так сказать, светского, другая – народного характера. Для первой сцены мне нужны были красивые светские женщины, молодые люди (некрасивых и неуклюжих я укрывал под характерным гримом и костюмом); для второй, ударной сцены, народной, – молодые, горячие студенты, которых приходилось бы даже удерживать от возможного членовредительства по отношению ко мне, Акосте. Когда во втором акте пьесы открылась декорация сада с массой нагороженных площадок, дававших разнообразные возможности для сценической группировки, и зритель увидал целый букет красавиц и красавцев в великолепных костюмах, зрительный зал ахнул. Лакеи разносили вина и сласти, кавалеры ухаживали за дамами с чопорными поклонами эпохи, дамы кокетничали, закатывая глазки, и прикрывались веерами, музыка играла; одни танцевали, другие составляли живописные группы. Проходил хозяин со стариками и именитыми гостями, которых с почетом принимали и усаживали. Являлся и сам Акоста, но все гости понемногу и незаметно отходили от него. Пришла красавица Юдифь, дочь и хозяйка дома, и радостно подошла к еретику. Гул веселых праздничных голосов сливался с музыкой.
Вдруг, в разгар веселья, вдали послышался гнусавый зловещий трубный глас, писклявые рожки и пение басов. Праздник замер на мгновение, потом все спуталось в беспорядке – началась паника. Тем временем снизу, на задней площадке балкона, появились страшные черные раввины. Слуги синагоги со свечами несли священные книги и свитки. На парадные костюмы поспешно набрасывали талесы, а на лоб привязывали ящички с заповедями. Черные слуги заботливо отвели всех от Акосты, начался страшный обряд проклятия. Но Акоста протестует, оправдывается, а молодая хозяйка бросается в любовном экстазе к проклятому и демонстративно объявляет о своей любви к нему. Совершился грех, кощунство. Все замерли и молча, смущенно стали расходиться. Постановка этой сцены сама по себе создавала настроение. Режиссер работал за артиста.
Русский театр впервые увидал такую массовую сцену, в которой все било на большой театральный успех. Нельзя описать того, что делалось после этого акта в зрительном зале. Мужья, жены, братья, сестры, отцы и матери, поклонники и знакомые наших красавиц-статисток и статистов бросались к рампе и с криками, доходившими до рева, с маханием платками и ломаньем стульев заставляли без конца подымать занавес и выходить на сцену всех участвующих.
Вторая, народная сцена была сделана совсем иначе, в расчете на впечатление иного характера. После религиозной церемонии в синагоге, после пения и публичного допроса кающийся Акоста выходил на возвышение среди толпы, чтобы читать отречение. Он сперва заикался, потом останавливался и наконец, не выдержав пытки, падал в обморок. Его подымали, приводили в чувство и, поддерживая, заставляли в полусознательном состоянии дочитывать акт отречения. Но брат Акосты, сжалившись над ним, крикнул из толпы, что мать их скончалась, а невеста его Юдифь посватана за другого. Поняв, что любовные и материнские путы спали с его души, Акоста-философ вновь воспрянул, выпрямился во весь рост и, подобно Галилею, крикнул на весь мир:
– А все-таки она вертится!
Как ни удерживали толпу, чтобы она не прикасалась к проклятому – что, по религиозному верованию, считалось опасным, – все присутствующие при новом кощунстве Акосты бросились на него и стали рвать его на части. Летели вверх куски разорванной одежды; Акоста падал, исчезая в толпе с глаз зрителей, и вновь вскакивал, доминируя над толпой и выкрикивая новые кощунственные слова.
Скажу по опыту этого спектакля: страшно в такую минуту стоять среди разъяренной толпы. Это был кульминационный момент пьесы, ее наивысший подъем. Толпа несла меня на своих волнах со страшной энергией, не давая мне времени выставлять свои душевные буфера. Мне кажется, что благодаря толпе я хорошо играл эту сцену и достигал высот подлинного трагического пафоса.
Совсем не то происходило во мне в третьем действии.
Там тоже был большой трагический подъем, но его я должен был совершить один, без посторонней помощи. Снова при приближении к нему мои душевные буфера выставились вперед, упираясь в творческую цель и не давая приблизиться к ней. Снова внутренние сомнения тормозили стремительность порыва, и я не мог ринуться вперед без оглядки в сверхсознательную область трагического. В эту минуту я был в положении купальщика, готовящегося броситься в холодную воду. Я чувствовал себя тенором без верхнего «до».
Постановка «Акосты» с большими народными сценами ? la мейнингенцы наделала шуму и привлекла внимание всей Москвы. О наших спектаклях заговорили, мы прославились и как бы взяли патент на народные сцены. Дела Общества поправились. Члены и артисты его, отчаявшиеся было в успехе, опять поверили в него и решили остаться в кружке.
Увлечение режиссерскими задачами
«Польский еврей»
Следующей постановкой Общества искусства и литературы была пьеса Эркмана-Шатриана «Польский еврей».
Есть пьесы, которые интересны сами по себе. Но есть другие, которые можно сделать интересными, если режиссер найдет оригинальный подход к ним. Вот, например, если я расскажу вам фабулу «Польского еврея» – будет скучно. Но если я возьму самую основу пьесы и на ней, точно по канве, разошью всевозможные узоры режиссерской фантазии – пьеса оживет и станет интересной.
Я выбрал для постановки именно эту пьесу, а не другую не потому, что она мне понравилась в подлиннике, а потому, что я полюбил ее в том плане постановки, который мне мерещился. И теперь я буду рассказывать о ней не так, как она написана, а так, как она была поставлена в Обществе искусства и литературы.
Представьте себе уютный интерьер в доме бургомистра, в горах, в пограничном местечке Эльзаса. Топится печь, весело горит лампа, за ужином в рождественскую ночь собрались: дочь бургомистра, ее жених – офицер пограничной стражи, лесничий, еще какой-то горец. На дворе буря, вой ветра. Рамы в окнах колышутся, дребезжат стекла, и в щели пробивается свист ветра, от которого ноет душа. Но компания веселится: распевают песни, курят, едят, пьют и балагурят. Один особенно сильный порыв ветра испугал собравшихся и заставил их вспомнить такую же бурю несколько лет тому назад: тогда среди воя ветра почудился звон высокого колокольчика. Кто-то ехал. Еще несколько минут – и звонок зазвучал близко, сразу остановился. Потом отворилась дверь, и на пороге показалась огромная фигура закутанного в шубу человека.
«Мир вам!» – сказал вошедший.
Это был один из богатых польских евреев, которые часто проезжают в тех местах. Сбросив шубу, он распоясался и положил на стол тяжелый кушак, в котором зазвенело золото. Отогревшись и переждав бурю, еврей уехал. На следующий день его лошади и экипаж были найдены в горах, а сам он бесследно исчез…
Подивившись в сотый раз этому странному происшествию, веселая компания снова принялась за вино и песни. Пришел бургомистр, хозяин дома, веселье росло под аккомпанемент порывов ветра, в вое которого опять почудился звон высокого колокольчика… Кто-то ехал. Еще несколько минут – и звонок зазвучал близко, сразу остановился. Потом отворилась дверь, и на пороге, как тогда, несколько лет тому назад, появилась большая фигура закутанного в шубу человека.
«Мир вам!» – сказал вошедший. Сбросив шубу, он распоясался, положил тяжелый кушак, в котором зазвенело золото. Присутствующие замерли. Бургомистр грохнулся об пол.
Второй акт изображает большую комнату в доме бургомистра. День свадьбы дочери с офицером пограничной стражи. Домашние уже в церкви, откуда доносится звон колокола. Один бургомистр остался дома – он все хворает после пережитого тогда испуга. Пришел жених проведать и развлечь его. Среди разговоров бургомистр насторожился. В звоне церкви ему чудился тонкий, сверлящий голову, серебристый звук колокольчика. И действительно, как будто вдали звенел звонок… А может быть, это только казалось. Нет! Слышен колокольчик… Нет! Ничего не слышно… Чтобы утешить больного, офицер стал уверять его, что скоро убийца будет найден, так как полиции удалось наконец напасть на след его… Приходят из церкви, собираются гости на свадьбу, является нотариус, подруги невесты, пришли музыканты. Обряд совершился, все поздравляют молодых, отца, друг друга. Начала играть музыка. Бал в самом разгаре. Но вот все яснее и яснее, в созвучии с оркестром, слышится звон колокольчика. Он все резче пробивает звук оркестра, все шире расплывается, точно вбирает в себя все остальные звуки, и наконец кричит один, до боли пронзительно, сверля голову, уши и мозг. Обезумевший бургомистр, желая заглушить колокольчик, умоляет, чтобы оркестр играл громче. Он бросается к первой попавшейся женщине и начинает вертеться в безумном танце. Он поет вместе с оркестром, но колокольчик звучит все сильнее, гуще и пронзительнее. Все заметили безумие бургомистра, перестали танцевать, стали жаться по стенам, а он все кружится в бешеном танце.
Третий акт – мансарда с покатым потолком, лестница снизу за перегородкой. На задней стене – окна, почти на уровне пола, со ставнями-жалюзи, из щелей которых видна темная ночь. Между окон огромная кровать, поставленная посреди комнаты, от задней стены, на зрителя. Задом к публике, по рампе, стоит мебель – стол, скамьи, комод, печь. Темно. Снизу доносятся веселые свадебные песни, музыка, звонкие молодые голоса, пьяные крики. По лестнице идет много людей с веселым говором. Это провожают со свечами отца невесты – бургомистра, который устал и хочет спать. Общие приветствия, прощанье. Толпа удаляется, а бледный, измученный бургомистр бросается к двери, чтоб запереть ее. Потом он садится в изнеможении, а снизу опять несется шум и звон посуды, среди которого можно, пожалуй, различить назойливый звук зловещего колокольчика. С тоской и волнением прислушиваясь к нему, бургомистр спешит раздеться, лечь, чтобы забыться во сне. Он тушит свечу, но в темноте с новой силой начинается целая музыкальная симфония из всевозможных страшных звуков. Слуховая галлюцинация, в которой перемешивается веселое пение, музыка, незаметно переходящая из свадебной песни в погребальный мотив; веселые голоса и возгласы молодых, перемешивающиеся с мрачными загробными голосами пьяниц; звон кружек и посуды, временами напоминающий церковный колокол. И через все звуки, точно лейтмотив симфонии, пронизывается, то мучительно и назойливо, то победоносно и угрожающе, зловещий колокольчик. При его звуках бургомистр стонет в темноте и произносит какие-то восклицания. Очевидно, он мечется, так как кровать трещит и что-то падает, – должно быть, стул, который он толкнул. Но вот среди комнаты, там, где кровать, появляются синевато-серые блики от какого-то света. Он то незаметно усиливается, то незаметно гаснет. Постепенно, под аккомпанемент слуховых галлюцинаций, вырисовывается фигура какого-то человека. У него опущенная голова с седыми, свисающими вниз волосами. Руки его связаны, и, когда он шевелит ими, слышится звон, похожий на железные цепи колодников. За спиной его столб с какой-то надписью. Можно подумать, что это позорный столб, а перед ним прикованный цепями преступник. Свет растет, становится серее, зеленее. Он распространяется по задней стене и делается зловещим фоном для каких-то черных существ, призрачных силуэтов, расположившихся по рампе, спиною к публике. Посреди – там, где был стол, – сидит на возвышении большой, полный человек в черной мантии, в шляпе, напоминающей судейскую. По бокам его – несколько таких же фигур в более низких шляпах. Направо – там, где был комод, – из-за кафедры вытянулась по направлению к преступнику худая змеевидная фигура в мантии, а налево – там, где печь, – облокотясь о кафедру, скорбно закрыв рукой глаза, неподвижно стоит защитник – тоже в черной мантии и шапочке. Допрос подсудимого производился точно в бреду, шепотом, беспрерывно меняющимся ритмом. Преступник все ниже опускает голову. Он отказывается отвечать. Но вот из-за угла, где висит платье, вырастает длинная, тонкая фигура; она подымается по стене, ползет по потолку, спускается вниз, над подсудимым, и смотрит на него в упор. Это – гипнотизер. Теперь преступник принужден поднять голову, и зритель узнает в изможденном, старом, похудевшем лице – бургомистра. Под чарами гипноза, плача, останавливаясь, поминутно обрывая речь, начинает он свои показания. На вопрос прокурора, вытянувшегося в его сторону, что сделал с убитым и ограбленным польским евреем, преступник снова упирается и не хочет говорить. Тогда подымается буря новых кошмарных звуков; на сцене постепенно темнеет, а там, за стеклами двери, выходящей на лестницу, разгорается пунцово-красное пламя. Бургомистр в бреду принимает это осветившееся сзади окно лестницы за кузнечный горн и бежит к нему, чтобы протиснуть огромное тело убитого еврея в узкое жерло раскаленной печи и сжечь в огне все следы преступления. Он сжег их, а вместе с ними и свою душу. Все исчезло. За окнами, в щелях ставней, видны были красные лучи восходящего солнца. Они пробивались в комнату, а снизу все еще доносились веселые пьяные крики пирующих на свадьбе. Весельчаки шумно подымались по лестнице в мансарду, чтобы будить хозяина, так как на дворе уже день. Стук в дверь. Ответа нет. Смеются и снова стучат; и снова нет ответа. Удивляются, потом пугаются, разбивают стекло, входят и застают бургомистра мертвым.
Превращение комнаты в судилище совершалось почти незаметно и производило настолько кошмарное впечатление, что почти на всех спектаклях нервные дамы выходили из зала, а некоторые падали в обморок, чем я, изобретатель трюка, очень гордился!
В то время как публика, смотря в нашу сторону, пугалась кошмара, я со сцены наблюдал совсем иную картину. Артисты-любители, среди которых были солидные люди и даже важный гражданский генерал, ползли в темноте по полу на животе, торопясь к своим местам, чтобы не быть застигнутыми светом. Многие из них опаздывали и подталкивали друг друга сзади. Это было так смешно, что рассеивало меня перед драматической сценой. Я закрывал глаза и думал: «Вот она, сцена! Отсюда – смех, оттуда – страх!»
Я люблю придумывать в театре чертовщину. Я радуюсь, когда мне удается найти трюк, который обманывает зрителя. В области фантастики сцена может сделать еще многое. Она не дала и половины того, что возможно. Признаюсь, что одной из причин постановки был трюк последнего акта, который казался мне интересным на сцене. Я не ошибся – он имел успех. Вызывали. Кого? Меня. За что? За режиссерство или актерство? Мне было приятно думать, что за последнее, и я относил вызовы к моей хорошей игре. Значит, я трагик, так как это роль из репертуара таких великих артистов, как Ирвинг, Барнай, Поль Муне, и других.
Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что я играл не совсем плохо. Интерес к пьесе и роли рос, но этот интерес создавался не самой психологией, не жизнью человеческого духа роли, а внешней фабулой. Кто же убил? Вот загадка, которая интриговала зрителей и требовала решения. Были и необходимые для трагедии кульминационные моменты – например, в финале первого акта, при неожиданном падении в обморок, в финале второго акта, при бешеном танце, и в третьем акте, в самом сильном моменте трюка. Кто же создал эти сильные моменты подъема – режиссер своей постановкой или актер своей игрой? Конечно, режиссер, и потому лавры спектакля принадлежали ему гораздо больше, чем актеру.
Эта постановка была для меня как бы новым уроком, на котором я учился извне, режиссерскими трюками, помогать актеру. А кроме того, я учился на ней искусству четко выявлять фабулу пьесы, ее внешнее действие. Нередко в театрах мы смотрим пьесу, не понимая ясно последовательности событий и зависимости их друг от друга. А это первое, что должно быть вычеканено в пьесе, потому что без этого трудно говорить о внутренней ее стороне. Но и тут был один большой минус, касающийся актеров. Наши любители не владели речью, так же как и я сам. Нам сильно доставалось за это от знатоков, которые рекомендовали нам учиться говорить у лучших актеров других театров, но мы инстинктивно чего-то боялись и рассуждали так:
«Лучше мы будем говорить неясно, только не так, как говорят все другие актеры на сцене. Они либо кокетничают словами и любуются переливами своего голоса, либо торжественно вещают. Пусть нас научат говорить просто, возвышенно, красиво, музыкально, но без всяких голосовых фиоритур, актерского пафоса и фортелей сценической дикции. Того же мы хотим в движениях и действиях. Пусть они скромны, недостаточно выразительны, малосценичны – в актерском смысле, – но зато они не фальшивы и по-человечески просты. Мы ненавидим театральность в театре, но любим сценическое на сцене. Это огромная разница».
Этот спектакль до некоторой степени убедил меня в том, что я начинаю уметь играть, но еще не самую трагедию, а подход к ней. Подобно тенору без «до», я был трагиком без высшего момента трагического подъема. В эти минуты мне нужна была помощь режиссера, которую я получил в этой постановке от сценического трюка.
На этом спектакле я хоть и не пошел вперед, но и не попятился назад. Я утвердился в хорошем новом, приобретенном раньше.
Опыты с заправскими актерами
В поисках себе помощника, который мог бы разделить со мной труд по управлению будущим театральным делом, в поисках артистов для пополнения своего ядра любителей я обратился к заправским актерам и антрепренерам. С этой целью я стал пробовать ставить спектакли с профессиональными актерами.
В одном из подмосковных дачных театров я взялся режиссировать «Ревизора» Гоголя.
Кто не знает, как играется «Ревизор»? Все было на своем месте: и диван, и стул, и каждая мелочь. Репетиция бойко началась и катилась так, что казалось, люди сотни раз играли вместе подготовляемый спектакль. Ни одной интонации, ни одного штриха от себя. Все однажды и навсегда зафиксировано гоголевским штампом, против которого он так энергично протестовал в своем «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”» и в известном письме о постановке этой комедии. Я нарочно не останавливал актеров, а по окончании первого акта наговорил им массу комплиментов и заключил свою речь к ним признанием в том, что мне ничего не остается больше, как прийти на спектакль и аплодировать, так как все готово. Если же артисты хотят играть другого, то есть гоголевского «Ревизора», то надо начинать все сначала, с «азов». Артисты захотели именно такой работы, и я самонадеянно взялся за нее.
– В таком случае начнем! – сказал я, входя на сцену. – Этот диван стоит налево; перенесите его направо! Входная дверь направо; делайте ее посредине! Вы начинали акт на диване? Переходите в обратную сторону, на кресло!
Так распоряжался я тогда с заправскими артистами со свойственным мне в то время деспотизмом.
– Теперь играйте пьесу с начала и с новыми мизансценами! – командовал я.
Но растерянные актеры с удивленными лицами недоумевали, куда каждый из них должен сесть или идти.
– А как же дальше? – терялся один.
– А куда же я иду теперь? – недоумевал другой.
– А как же я скажу эту фразу? – обращался ко мне третий, потеряв всякий апломб, точно превратившись в простого любителя.
Теперь, без всякой почвы под ногами, они отдались мне целиком, и я начал управлять актерами совершенно так же, как управлял любителями. Это не нравилось, и между мной и ими точно пробежала черная кошка.
Спектакль прошел плохо, так как актеры не имели времени отстать от старого и усвоить новое. Я их ничему не научил, а только разладил. Напротив, они меня научили многому. Я узнал на себе, что значат актерские сплетни, извод, насмешки. Я понял также, что разрушать вековые традиции гораздо легче, чем создавать новые.
Я не сознавал еще тогда, что есть мужественный лиризм, мужественная нежность и мечтательность, мужественная любовь и что сентиментализм – лишь плохой суррогат чувства. Я еще не понимал, что самый тенористый тенор, самая нежнейшая инженю-лирик должны прежде всего заботиться о том, чтоб их любовное чувство было крепко, мужественно. Чем нежнее и лиричнее любовь, тем яснее, крепче должна быть душевная краска, эту любовь характеризующая. Рыхлая сентиментальность не только у молодого мужчины, но и у юной здоровой девушки не соответствует ее молодой природе и создает диссонанс.
Вот почему любовные сцены роли пропали в моем исполнении. Но на мое счастье, в пьесе их было немного. Волевые же места ее, в которых сказывалось стойкое убеждение философа, мне удавались, и если бы не следы оперности, оставшиеся еще в довольно значительной степени от прошлого, – было бы совсем прилично.
Обнаружился у меня, однако, еще один большой недостаток, который я не хотел признавать в себе. Я был не в ладу с текстом. Этот дефект не был для меня новостью, он давно уже стал проявлять себя. В ранние годы, как и теперь, он мешал мне отдаваться интуиции и вдохновению, заставляя меня неустанно следить за собой в то время, когда я стоял на подмостках. В моменты творческого подъема память может изменить мне и оборвать непрерывную подачу словесного текста. А если это случится – беда: остановка, прозрачное белое пятно на экране памяти и… паника. Эта зависимость от текста при неуверенности в своей памяти – необходимость в каждую данную минуту контролировать ее сознанием – лишает меня возможности отдаваться моментам творческого подъема с полной свободой и непосредственностью. Когда я выхожу из этой зависимости, как, например, в молчаливых паузах или во время показывания роли на репетициях без заученного текста, на слова, которые сами приходят мне в голову, – я могу раскрываться полностью и отдавать из души все, без остатка.
Как важно для артиста иметь хорошую память. Зачем бессмысленным зубрением в гимназии натрудили мне мою память! Пусть молодые артисты берегут и развивают ее, так как она имеет большое значение во все моменты творчества, особенно же в минуты наивысшего подъема артистического напряжения.
Под влиянием мейнингенцев мы возлагали больший, чем было нужно, расчет на внешнюю сторону постановки, главным образом на костюмы, историческую, музейную верность эпохе и особенно на народные сцены, которые в то время составляли главную новость в театре. Со свойственным мне тогда деспотизмом, не считаясь ни с чем, я забрал все в свои режиссерские руки и распоряжался актерами, как манекенами. За исключением отдельных лиц, вроде талантливого В.В. Лужского и Г.С. Бурджалова, ставших известными артистами Московского Художественного театра, талантливого А.А. Санина и Н.А. Попова, ставших хорошими режиссерами, и кое-кого еще, – остальные любительские силы, которыми я располагал, сами требовали для себя этого режиссерского деспотизма. У кого нет таланта, того приходится подвергать простой муштровке, одевать по своему вкусу и заставлять действовать на сцене по воле режиссера. Бездарных же, особенно если им приходится давать большие роли, надо, для пользы спектакля, умышленно затушевывать. Для этого есть превосходные, как мне тогда казалось, средства, которые я изучил в совершенстве. Они, как ширмы, заслоняют то, что надо скрыть на сцене. Вот, например, во втором акте «Акосты», на празднике у Манассе, надо было прикрыть двух неталантливых любителей, которые вели большую сцену. Для этого я выбрал наиболее красивую даму и кавалера в самых ярких и богатых костюмах и выпустил их на самую высокую площадку, расположенную на видном месте. Кавалер энергично ухаживал за дамой, а она кокетничала. Потом я придумал им целую сцену, которая отвлекала внимание зрителей от действующих на авансцене любителей. Только в местах, необходимых для экспозиции пьесы, я временно укрощал статистов, чтобы дать возможность зрителям прослушать необходимые слова. Не правда ли, как просто? Конечно, режиссера за такие приемы бранили. Но лучше принять на себя вину за чрезмерное старание, чем сознаться в несостоятельности своей труппы.
Кроме того, для успеха пьесы и ее исполнителей необходимы ударные места, соответствующие кульминационным моментам пьесы. Если нельзя создать их силами самих артистов, приходится прибегать к помощи режиссера. И на этот случай у меня было выработано много разных приемов.
Так, например, в «Уриэле Акосте» есть два момента, которые непременно должны запечатлеться в памяти зрителей. Первый из этих моментов – проклятие Акосты, во втором акте, во время праздника у Манассе. Второй – отречение Акосты в синагоге, в четвертом акте. Одна сцена, так сказать, светского, другая – народного характера. Для первой сцены мне нужны были красивые светские женщины, молодые люди (некрасивых и неуклюжих я укрывал под характерным гримом и костюмом); для второй, ударной сцены, народной, – молодые, горячие студенты, которых приходилось бы даже удерживать от возможного членовредительства по отношению ко мне, Акосте. Когда во втором акте пьесы открылась декорация сада с массой нагороженных площадок, дававших разнообразные возможности для сценической группировки, и зритель увидал целый букет красавиц и красавцев в великолепных костюмах, зрительный зал ахнул. Лакеи разносили вина и сласти, кавалеры ухаживали за дамами с чопорными поклонами эпохи, дамы кокетничали, закатывая глазки, и прикрывались веерами, музыка играла; одни танцевали, другие составляли живописные группы. Проходил хозяин со стариками и именитыми гостями, которых с почетом принимали и усаживали. Являлся и сам Акоста, но все гости понемногу и незаметно отходили от него. Пришла красавица Юдифь, дочь и хозяйка дома, и радостно подошла к еретику. Гул веселых праздничных голосов сливался с музыкой.
Вдруг, в разгар веселья, вдали послышался гнусавый зловещий трубный глас, писклявые рожки и пение басов. Праздник замер на мгновение, потом все спуталось в беспорядке – началась паника. Тем временем снизу, на задней площадке балкона, появились страшные черные раввины. Слуги синагоги со свечами несли священные книги и свитки. На парадные костюмы поспешно набрасывали талесы, а на лоб привязывали ящички с заповедями. Черные слуги заботливо отвели всех от Акосты, начался страшный обряд проклятия. Но Акоста протестует, оправдывается, а молодая хозяйка бросается в любовном экстазе к проклятому и демонстративно объявляет о своей любви к нему. Совершился грех, кощунство. Все замерли и молча, смущенно стали расходиться. Постановка этой сцены сама по себе создавала настроение. Режиссер работал за артиста.
Русский театр впервые увидал такую массовую сцену, в которой все било на большой театральный успех. Нельзя описать того, что делалось после этого акта в зрительном зале. Мужья, жены, братья, сестры, отцы и матери, поклонники и знакомые наших красавиц-статисток и статистов бросались к рампе и с криками, доходившими до рева, с маханием платками и ломаньем стульев заставляли без конца подымать занавес и выходить на сцену всех участвующих.
Вторая, народная сцена была сделана совсем иначе, в расчете на впечатление иного характера. После религиозной церемонии в синагоге, после пения и публичного допроса кающийся Акоста выходил на возвышение среди толпы, чтобы читать отречение. Он сперва заикался, потом останавливался и наконец, не выдержав пытки, падал в обморок. Его подымали, приводили в чувство и, поддерживая, заставляли в полусознательном состоянии дочитывать акт отречения. Но брат Акосты, сжалившись над ним, крикнул из толпы, что мать их скончалась, а невеста его Юдифь посватана за другого. Поняв, что любовные и материнские путы спали с его души, Акоста-философ вновь воспрянул, выпрямился во весь рост и, подобно Галилею, крикнул на весь мир:
– А все-таки она вертится!
Как ни удерживали толпу, чтобы она не прикасалась к проклятому – что, по религиозному верованию, считалось опасным, – все присутствующие при новом кощунстве Акосты бросились на него и стали рвать его на части. Летели вверх куски разорванной одежды; Акоста падал, исчезая в толпе с глаз зрителей, и вновь вскакивал, доминируя над толпой и выкрикивая новые кощунственные слова.
Скажу по опыту этого спектакля: страшно в такую минуту стоять среди разъяренной толпы. Это был кульминационный момент пьесы, ее наивысший подъем. Толпа несла меня на своих волнах со страшной энергией, не давая мне времени выставлять свои душевные буфера. Мне кажется, что благодаря толпе я хорошо играл эту сцену и достигал высот подлинного трагического пафоса.
Совсем не то происходило во мне в третьем действии.
Там тоже был большой трагический подъем, но его я должен был совершить один, без посторонней помощи. Снова при приближении к нему мои душевные буфера выставились вперед, упираясь в творческую цель и не давая приблизиться к ней. Снова внутренние сомнения тормозили стремительность порыва, и я не мог ринуться вперед без оглядки в сверхсознательную область трагического. В эту минуту я был в положении купальщика, готовящегося броситься в холодную воду. Я чувствовал себя тенором без верхнего «до».
Постановка «Акосты» с большими народными сценами ? la мейнингенцы наделала шуму и привлекла внимание всей Москвы. О наших спектаклях заговорили, мы прославились и как бы взяли патент на народные сцены. Дела Общества поправились. Члены и артисты его, отчаявшиеся было в успехе, опять поверили в него и решили остаться в кружке.
Увлечение режиссерскими задачами
«Польский еврей»
Следующей постановкой Общества искусства и литературы была пьеса Эркмана-Шатриана «Польский еврей».
Есть пьесы, которые интересны сами по себе. Но есть другие, которые можно сделать интересными, если режиссер найдет оригинальный подход к ним. Вот, например, если я расскажу вам фабулу «Польского еврея» – будет скучно. Но если я возьму самую основу пьесы и на ней, точно по канве, разошью всевозможные узоры режиссерской фантазии – пьеса оживет и станет интересной.
Я выбрал для постановки именно эту пьесу, а не другую не потому, что она мне понравилась в подлиннике, а потому, что я полюбил ее в том плане постановки, который мне мерещился. И теперь я буду рассказывать о ней не так, как она написана, а так, как она была поставлена в Обществе искусства и литературы.
Представьте себе уютный интерьер в доме бургомистра, в горах, в пограничном местечке Эльзаса. Топится печь, весело горит лампа, за ужином в рождественскую ночь собрались: дочь бургомистра, ее жених – офицер пограничной стражи, лесничий, еще какой-то горец. На дворе буря, вой ветра. Рамы в окнах колышутся, дребезжат стекла, и в щели пробивается свист ветра, от которого ноет душа. Но компания веселится: распевают песни, курят, едят, пьют и балагурят. Один особенно сильный порыв ветра испугал собравшихся и заставил их вспомнить такую же бурю несколько лет тому назад: тогда среди воя ветра почудился звон высокого колокольчика. Кто-то ехал. Еще несколько минут – и звонок зазвучал близко, сразу остановился. Потом отворилась дверь, и на пороге показалась огромная фигура закутанного в шубу человека.
«Мир вам!» – сказал вошедший.
Это был один из богатых польских евреев, которые часто проезжают в тех местах. Сбросив шубу, он распоясался и положил на стол тяжелый кушак, в котором зазвенело золото. Отогревшись и переждав бурю, еврей уехал. На следующий день его лошади и экипаж были найдены в горах, а сам он бесследно исчез…
Подивившись в сотый раз этому странному происшествию, веселая компания снова принялась за вино и песни. Пришел бургомистр, хозяин дома, веселье росло под аккомпанемент порывов ветра, в вое которого опять почудился звон высокого колокольчика… Кто-то ехал. Еще несколько минут – и звонок зазвучал близко, сразу остановился. Потом отворилась дверь, и на пороге, как тогда, несколько лет тому назад, появилась большая фигура закутанного в шубу человека.
«Мир вам!» – сказал вошедший. Сбросив шубу, он распоясался, положил тяжелый кушак, в котором зазвенело золото. Присутствующие замерли. Бургомистр грохнулся об пол.
Второй акт изображает большую комнату в доме бургомистра. День свадьбы дочери с офицером пограничной стражи. Домашние уже в церкви, откуда доносится звон колокола. Один бургомистр остался дома – он все хворает после пережитого тогда испуга. Пришел жених проведать и развлечь его. Среди разговоров бургомистр насторожился. В звоне церкви ему чудился тонкий, сверлящий голову, серебристый звук колокольчика. И действительно, как будто вдали звенел звонок… А может быть, это только казалось. Нет! Слышен колокольчик… Нет! Ничего не слышно… Чтобы утешить больного, офицер стал уверять его, что скоро убийца будет найден, так как полиции удалось наконец напасть на след его… Приходят из церкви, собираются гости на свадьбу, является нотариус, подруги невесты, пришли музыканты. Обряд совершился, все поздравляют молодых, отца, друг друга. Начала играть музыка. Бал в самом разгаре. Но вот все яснее и яснее, в созвучии с оркестром, слышится звон колокольчика. Он все резче пробивает звук оркестра, все шире расплывается, точно вбирает в себя все остальные звуки, и наконец кричит один, до боли пронзительно, сверля голову, уши и мозг. Обезумевший бургомистр, желая заглушить колокольчик, умоляет, чтобы оркестр играл громче. Он бросается к первой попавшейся женщине и начинает вертеться в безумном танце. Он поет вместе с оркестром, но колокольчик звучит все сильнее, гуще и пронзительнее. Все заметили безумие бургомистра, перестали танцевать, стали жаться по стенам, а он все кружится в бешеном танце.
Третий акт – мансарда с покатым потолком, лестница снизу за перегородкой. На задней стене – окна, почти на уровне пола, со ставнями-жалюзи, из щелей которых видна темная ночь. Между окон огромная кровать, поставленная посреди комнаты, от задней стены, на зрителя. Задом к публике, по рампе, стоит мебель – стол, скамьи, комод, печь. Темно. Снизу доносятся веселые свадебные песни, музыка, звонкие молодые голоса, пьяные крики. По лестнице идет много людей с веселым говором. Это провожают со свечами отца невесты – бургомистра, который устал и хочет спать. Общие приветствия, прощанье. Толпа удаляется, а бледный, измученный бургомистр бросается к двери, чтоб запереть ее. Потом он садится в изнеможении, а снизу опять несется шум и звон посуды, среди которого можно, пожалуй, различить назойливый звук зловещего колокольчика. С тоской и волнением прислушиваясь к нему, бургомистр спешит раздеться, лечь, чтобы забыться во сне. Он тушит свечу, но в темноте с новой силой начинается целая музыкальная симфония из всевозможных страшных звуков. Слуховая галлюцинация, в которой перемешивается веселое пение, музыка, незаметно переходящая из свадебной песни в погребальный мотив; веселые голоса и возгласы молодых, перемешивающиеся с мрачными загробными голосами пьяниц; звон кружек и посуды, временами напоминающий церковный колокол. И через все звуки, точно лейтмотив симфонии, пронизывается, то мучительно и назойливо, то победоносно и угрожающе, зловещий колокольчик. При его звуках бургомистр стонет в темноте и произносит какие-то восклицания. Очевидно, он мечется, так как кровать трещит и что-то падает, – должно быть, стул, который он толкнул. Но вот среди комнаты, там, где кровать, появляются синевато-серые блики от какого-то света. Он то незаметно усиливается, то незаметно гаснет. Постепенно, под аккомпанемент слуховых галлюцинаций, вырисовывается фигура какого-то человека. У него опущенная голова с седыми, свисающими вниз волосами. Руки его связаны, и, когда он шевелит ими, слышится звон, похожий на железные цепи колодников. За спиной его столб с какой-то надписью. Можно подумать, что это позорный столб, а перед ним прикованный цепями преступник. Свет растет, становится серее, зеленее. Он распространяется по задней стене и делается зловещим фоном для каких-то черных существ, призрачных силуэтов, расположившихся по рампе, спиною к публике. Посреди – там, где был стол, – сидит на возвышении большой, полный человек в черной мантии, в шляпе, напоминающей судейскую. По бокам его – несколько таких же фигур в более низких шляпах. Направо – там, где был комод, – из-за кафедры вытянулась по направлению к преступнику худая змеевидная фигура в мантии, а налево – там, где печь, – облокотясь о кафедру, скорбно закрыв рукой глаза, неподвижно стоит защитник – тоже в черной мантии и шапочке. Допрос подсудимого производился точно в бреду, шепотом, беспрерывно меняющимся ритмом. Преступник все ниже опускает голову. Он отказывается отвечать. Но вот из-за угла, где висит платье, вырастает длинная, тонкая фигура; она подымается по стене, ползет по потолку, спускается вниз, над подсудимым, и смотрит на него в упор. Это – гипнотизер. Теперь преступник принужден поднять голову, и зритель узнает в изможденном, старом, похудевшем лице – бургомистра. Под чарами гипноза, плача, останавливаясь, поминутно обрывая речь, начинает он свои показания. На вопрос прокурора, вытянувшегося в его сторону, что сделал с убитым и ограбленным польским евреем, преступник снова упирается и не хочет говорить. Тогда подымается буря новых кошмарных звуков; на сцене постепенно темнеет, а там, за стеклами двери, выходящей на лестницу, разгорается пунцово-красное пламя. Бургомистр в бреду принимает это осветившееся сзади окно лестницы за кузнечный горн и бежит к нему, чтобы протиснуть огромное тело убитого еврея в узкое жерло раскаленной печи и сжечь в огне все следы преступления. Он сжег их, а вместе с ними и свою душу. Все исчезло. За окнами, в щелях ставней, видны были красные лучи восходящего солнца. Они пробивались в комнату, а снизу все еще доносились веселые пьяные крики пирующих на свадьбе. Весельчаки шумно подымались по лестнице в мансарду, чтобы будить хозяина, так как на дворе уже день. Стук в дверь. Ответа нет. Смеются и снова стучат; и снова нет ответа. Удивляются, потом пугаются, разбивают стекло, входят и застают бургомистра мертвым.
Превращение комнаты в судилище совершалось почти незаметно и производило настолько кошмарное впечатление, что почти на всех спектаклях нервные дамы выходили из зала, а некоторые падали в обморок, чем я, изобретатель трюка, очень гордился!
В то время как публика, смотря в нашу сторону, пугалась кошмара, я со сцены наблюдал совсем иную картину. Артисты-любители, среди которых были солидные люди и даже важный гражданский генерал, ползли в темноте по полу на животе, торопясь к своим местам, чтобы не быть застигнутыми светом. Многие из них опаздывали и подталкивали друг друга сзади. Это было так смешно, что рассеивало меня перед драматической сценой. Я закрывал глаза и думал: «Вот она, сцена! Отсюда – смех, оттуда – страх!»
Я люблю придумывать в театре чертовщину. Я радуюсь, когда мне удается найти трюк, который обманывает зрителя. В области фантастики сцена может сделать еще многое. Она не дала и половины того, что возможно. Признаюсь, что одной из причин постановки был трюк последнего акта, который казался мне интересным на сцене. Я не ошибся – он имел успех. Вызывали. Кого? Меня. За что? За режиссерство или актерство? Мне было приятно думать, что за последнее, и я относил вызовы к моей хорошей игре. Значит, я трагик, так как это роль из репертуара таких великих артистов, как Ирвинг, Барнай, Поль Муне, и других.
Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что я играл не совсем плохо. Интерес к пьесе и роли рос, но этот интерес создавался не самой психологией, не жизнью человеческого духа роли, а внешней фабулой. Кто же убил? Вот загадка, которая интриговала зрителей и требовала решения. Были и необходимые для трагедии кульминационные моменты – например, в финале первого акта, при неожиданном падении в обморок, в финале второго акта, при бешеном танце, и в третьем акте, в самом сильном моменте трюка. Кто же создал эти сильные моменты подъема – режиссер своей постановкой или актер своей игрой? Конечно, режиссер, и потому лавры спектакля принадлежали ему гораздо больше, чем актеру.
Эта постановка была для меня как бы новым уроком, на котором я учился извне, режиссерскими трюками, помогать актеру. А кроме того, я учился на ней искусству четко выявлять фабулу пьесы, ее внешнее действие. Нередко в театрах мы смотрим пьесу, не понимая ясно последовательности событий и зависимости их друг от друга. А это первое, что должно быть вычеканено в пьесе, потому что без этого трудно говорить о внутренней ее стороне. Но и тут был один большой минус, касающийся актеров. Наши любители не владели речью, так же как и я сам. Нам сильно доставалось за это от знатоков, которые рекомендовали нам учиться говорить у лучших актеров других театров, но мы инстинктивно чего-то боялись и рассуждали так:
«Лучше мы будем говорить неясно, только не так, как говорят все другие актеры на сцене. Они либо кокетничают словами и любуются переливами своего голоса, либо торжественно вещают. Пусть нас научат говорить просто, возвышенно, красиво, музыкально, но без всяких голосовых фиоритур, актерского пафоса и фортелей сценической дикции. Того же мы хотим в движениях и действиях. Пусть они скромны, недостаточно выразительны, малосценичны – в актерском смысле, – но зато они не фальшивы и по-человечески просты. Мы ненавидим театральность в театре, но любим сценическое на сцене. Это огромная разница».
Этот спектакль до некоторой степени убедил меня в том, что я начинаю уметь играть, но еще не самую трагедию, а подход к ней. Подобно тенору без «до», я был трагиком без высшего момента трагического подъема. В эти минуты мне нужна была помощь режиссера, которую я получил в этой постановке от сценического трюка.
На этом спектакле я хоть и не пошел вперед, но и не попятился назад. Я утвердился в хорошем новом, приобретенном раньше.
Опыты с заправскими актерами
В поисках себе помощника, который мог бы разделить со мной труд по управлению будущим театральным делом, в поисках артистов для пополнения своего ядра любителей я обратился к заправским актерам и антрепренерам. С этой целью я стал пробовать ставить спектакли с профессиональными актерами.
В одном из подмосковных дачных театров я взялся режиссировать «Ревизора» Гоголя.
Кто не знает, как играется «Ревизор»? Все было на своем месте: и диван, и стул, и каждая мелочь. Репетиция бойко началась и катилась так, что казалось, люди сотни раз играли вместе подготовляемый спектакль. Ни одной интонации, ни одного штриха от себя. Все однажды и навсегда зафиксировано гоголевским штампом, против которого он так энергично протестовал в своем «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”» и в известном письме о постановке этой комедии. Я нарочно не останавливал актеров, а по окончании первого акта наговорил им массу комплиментов и заключил свою речь к ним признанием в том, что мне ничего не остается больше, как прийти на спектакль и аплодировать, так как все готово. Если же артисты хотят играть другого, то есть гоголевского «Ревизора», то надо начинать все сначала, с «азов». Артисты захотели именно такой работы, и я самонадеянно взялся за нее.
– В таком случае начнем! – сказал я, входя на сцену. – Этот диван стоит налево; перенесите его направо! Входная дверь направо; делайте ее посредине! Вы начинали акт на диване? Переходите в обратную сторону, на кресло!
Так распоряжался я тогда с заправскими артистами со свойственным мне в то время деспотизмом.
– Теперь играйте пьесу с начала и с новыми мизансценами! – командовал я.
Но растерянные актеры с удивленными лицами недоумевали, куда каждый из них должен сесть или идти.
– А как же дальше? – терялся один.
– А куда же я иду теперь? – недоумевал другой.
– А как же я скажу эту фразу? – обращался ко мне третий, потеряв всякий апломб, точно превратившись в простого любителя.
Теперь, без всякой почвы под ногами, они отдались мне целиком, и я начал управлять актерами совершенно так же, как управлял любителями. Это не нравилось, и между мной и ими точно пробежала черная кошка.
Спектакль прошел плохо, так как актеры не имели времени отстать от старого и усвоить новое. Я их ничему не научил, а только разладил. Напротив, они меня научили многому. Я узнал на себе, что значат актерские сплетни, извод, насмешки. Я понял также, что разрушать вековые традиции гораздо легче, чем создавать новые.
Другие электронные книги автора Константин Сергеевич Станиславский
Другие аудиокниги автора Константин Сергеевич Станиславский
Этика




 0
0