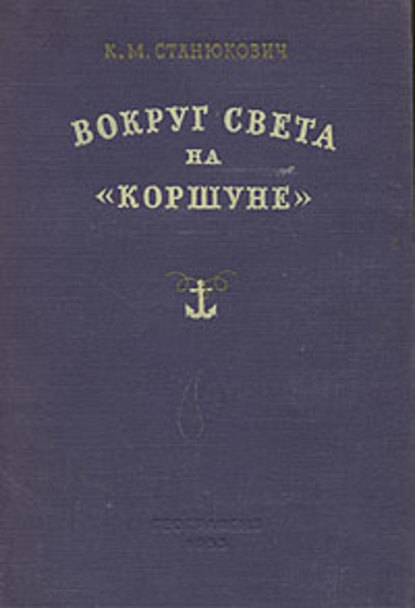По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокруг света на «Коршуне»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда в тот же день старший офицер призвал к себе в каюту обоих боцманов, Федотова и Никифорова, двух старых служак, отзвонивших во флоте по пятнадцати лет и прошедших старую суровую школу, и сказал им, чтобы они бросили линьки и передали об этом остальным унтер-офицерам, то оба боцмана в первое мгновение вытаращили удивленно глаза, видимо, не веря своим ушам: до того это казалось невероятным по тем временам.
Однако твердо знавшие правила дисциплины, они оба почти одновременно отвечали:
– Слушаю, ваше благородие!
Тем не менее и красно-сизое, суровое на вид лицо Федотова с заседевшими черными бакенбардами и перешибленным носом, и менее подозрительного оттенка физиономия боцмана второй вахты Никифорова, рыжеусого, с лукавыми маленькими глазами, коренастого человека, выражали собой полнейшее недоумение.
– Поняли? – спросил строго старший офицер.
– Никак нет, ваше благородие! – отвечали разом оба, причем Федотов еще более нахмурился, сдвинув свои густые, нависшие брови, словно бы кем-то обиженный и чем-то недовольный, а Никифоров, как более тонкий дипломат и не знающий за собой, как его товарищ, слабости напиваться на берегу до бесчувствия, еще почтительнее заморгал глазами.
– Кажется, я ясно говорю: бросить линьки. Понял, Федотов?
– Никак нет, ваше благородие.
– А ты, Никифоров?
– Невдомек, ваше благородие, по какой такой причине и как, осмелюсь вам доложить, ваше благородие, боцман… и вдруг без линька…
– Боцман, ваше благородие, и не имеет при себе линька! – повторил и Федотов.
– Не ваше дело рассуждать! Чтобы я их не видал! Слышите!
– Слушаем, ваше благородие.
– И чтобы вы не смели ударить матроса… Ни боже ни!
– Как вам угодно, ваше благородие, но только осмелюсь вам доложить, что это никак невозможно! – пробурчал Федотов.
– Никакого, значит, почтения к боцману не будет, – доложил почтительно Никифоров.
– Ежели примерно, ваше благородие, не вдарь я матроса в зубы, какой же я буду боцман! – угрюмо заметил Федотов.
– И ежели за дело и драться с рассудком, ваше благородие, то, позвольте доложить, что матрос вовсе и не обижается… Напротив, даже… чувствует, что проучен по справедливости! – объяснял Никифоров.
Старший офицер, человек далеко не злой, но очень вспыльчивый, который и сам, случалось, в минуты служебного гнева давал волю рукам, слушал эти объяснения двух старых, отлично знающих свое дело боцманов, подавляя невольную сочувственную улыбку и отлично понимая затруднительность их положения.
В самом деле, приказание это шло вразрез с установившимися и освященными обычаем понятиями о «боцманском праве» и о педагогических приемах матросского обучения. Без этого права, казалось, – и не одним только боцманам в те времена казалось, – немыслим был хороший боцман, наводящий страх на матросов.
Но какого бы мнения ни был Андрей Николаевич о капитанском приказании, а оно было для него свято, и необходимо было его исполнить.
И, напуская на себя самый строгий начальнический вид, словно бы желая этим видом прекратить всякие дальнейшие рассуждения, он строго прикрикнул:
– Не драться, и никаких разговоров!
– Есть, ваше благородие! – ответили оба боцмана значительно упавшими, точно сдавленными голосами.
– И если я услышу жалобы, что вы деретесь, с вас будет строго взыскано… Зарубите себе на память…
Оба боцмана слушали эти диковинные речи безмолвные, изумленные и подавленные.
– Особенно ты, Федотов, смотри… не зверствуй… У тебя есть эта привычка непременно искровянить матроса… Я тебя не первый день знаю… Ишь ведь у тебя, у дьявола, ручища! – прибавил старший офицер, бросая взгляд на действительно огромную, жилистую, всю в смоле, руку боцмана, теребившую штанину.
Федотов невольно опустил глаза и, вероятно сам несколько смущенный видом своей руки, стыдливо спрятал ее назад.
– И, кроме того, – уже менее строгим тоном продолжал старший офицер, – не очень-то распускайте свои языки. Вы оба так ругаетесь, что только ахнешь… Откуда только у вас эта гадость берется?.. Смотри… остерегайтесь. Капитан этого не любит… Ну, ступайте и передайте всем унтер-офицерам то, что я сказал! – заключил Андрей Николаевич, хорошо сознавая тщету последнего своего приказания.
Окончательно ошалевшие, оба боцмана юркнули из каюты с красными лицами и удивленно выкаченными глазами. Они торопливо прошли кают-компанию, осторожно и на цыпочках ступая по клеенке, и вновь получили дар слова только тогда, когда прибежали на бак.
Но дар слова явился не сразу.
Сперва они подошли к кадке с водой[38 - Кадка с водой стоит для курильщиков нижних чинов. Курить можно только у кадки.] и, вынув из штанов свои трубчонки и набив их махоркой, молча и неистово сделали несколько затяжек, и уж после того Никифоров, подмигнув глазом, произнес:
– Какова, Пров Захарыч, загвоздка, а?
– Д-д-да, братец ты мой, чудеса, – вымолвил Пров Захарович.
– Ты вот и пойми, в каких это смыслах!
– То-то… невдомек. И где это на военном судне видно, чтобы боцман и… тьфу!..
Федотов только сплюнул и выругался довольно затейливо, однако в дальнейшие объяснения не пустился ввиду присутствия матросов.
– И опять же, не моги сказать слова… Какая такая это новая мода, Захарыч?..
– Как он сам-то удержится… Небось, и он любит загнуть…
– Не хуже нашего…
– То-то и есть.
Дальнейшие совещания по поводу отданных старшим офицером приказаний происходили в тесном кружке, собравшемся в сторонке. Здесь были все представители так называемой баковой аристократии: оба боцмана, унтер-офицеры, баталер[39 - Заведующий провизией и раздачей водки.], подшкипер[40 - Заведующий каютой, в которой хранятся разные запасы судового снабжения.], артиллерийский вахтер[41 - Заведующий крюйт-камерой (пороховым погребом), оружием и снарядами.], фельдшер и писарь. Линьки, само собой разумеется, надо было бросить. Что же касается до того, чтобы не тронуть матроса, то, несмотря на одобрение этого распоряжения в принципе многими, особенно фельдшером и писарем, большинство нашло, что безусловно исполнить такое приказание решительно невозможно и что – как-никак, а учить иной раз матроса надо, но, конечно, с опаской, не на глазах у начальства, а в тайности, причем, по выражению боцмана Никифорова, бить следовало не зря, а с «рассудком», чтобы не «оказывало» знаков и не вышло каких-нибудь кляуз.
Вопрос о том, чтобы не ругаться, даже и не обсуждался. Он просто встречен был дружным общим смехом.
Все эти решения постановлено было держать в секрете от матросов; но в тот же день по всему корвету уже распространилось известие о том, что боцманам и унтер-офицерам не велено драться, и эта новость была встречена общим сочувствием. Особенно радовались молодые матросы, которым больше других могло попадать от унтер-офицеров. Старые, послужившие, и сами могли постоять за себя.
III
Небольшой «брамсельный»[42 - Слабый ветер, позволяющий нести брамселя – третьи снизу прямые паруса. – Ред.] ветерок, встреченный ночью корветом, дул, как выражаются моряки, прямо в «лоб», то есть был противный, и «Коршун» продолжал идти под парами по неприветливому Финскому заливу при сырой и пронизывающей осенней погоде. По временам моросил дождь и набегала пасмурность. Вахтенные матросы ежились в своих пальтишках, стоя на своих местах, и лясничали (разговаривали) вполголоса между собой, передавая один другому свои делишки и заботы, оставленные только что в Кронштадте. Почти половина команды была из старослужилых, и у каждого из них были в Кронштадте близкие – у кого жена и дети, у кого родные и приятели. Поговорить было о чем и о ком пожалеть.
Капитан то и дело выходил наверх и поднимался на мостик и вместе с старшим штурманом зорко посматривал в бинокль на рассеянные по пути знаки разных отмелей и банок, которыми так богат Финский залив. И он и старший штурман почти всю ночь простояли наверху и только на рассвете легли спать.
Наконец, во втором часу прошли высокий мрачный остров Гогланд и миновали маленький предательский во время туманов Родшер. Там уж прямая, открытая дорога серединой залива в Балтийское море.
За Гогландом горизонт начинал прочищаться. Ветер свежел и стал заходить.
– Кажется, норд-вест думает установиться. Как вы полагаете, Степан Ильич?