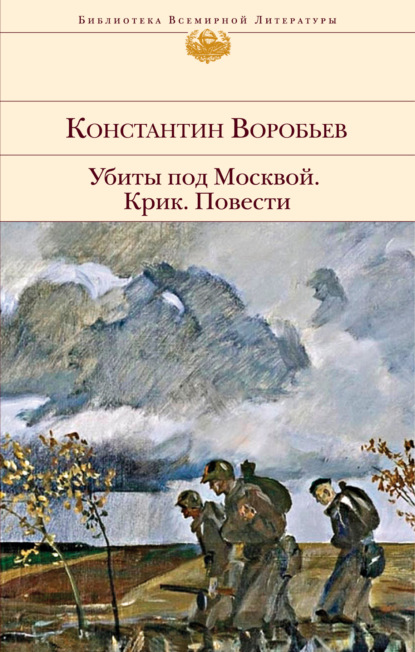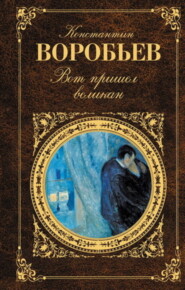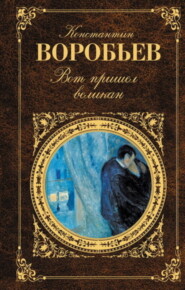По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Убиты под Москвой. Крик. Повести
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да ничего. Пить заставили… А после один там хрен моржовый закричал: «Петролеум» – и ударил пустой писанкой… Да мне и не больно было, – сказал Васюков. Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе, и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал:
– Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва, стукнул… Между прочим, тут бураки есть. Цельная куча…
Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому.
Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко, – не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать, – соображал, наверно, потом сказал:
– Да на вид они, как мы. Одежа только не наша… Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все…
Когда ты не знаешь, о чем надо думать, – заживет ли рана и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину навылет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или Калач назначит взводным курву Крылова, кто напишет про тебя матери – Лапин или капитан Мишенин, – лучше б Мишенин, потому что письмо у него получится длинней, и мать не сразу начнет плакать, – когда ты не знаешь, об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами, и вот-вот ринешься вниз, и взорвешься миной.
– Ты не спишь? – хриплым полушепотом спросил Васюков. – В наступление, наверно, пошли. Чуешь?
За стенами сарая ревели немецкие танки.
– Может, забудут про нас, а?
Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно, разом, начали углубляться-вдавливаться в солому. В ней внизу непугано и занятно шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами, – может, не заметят. Но как только танки двинулись и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали ногами на запад, – это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали: они – вдвоем, видать – лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами.
– Русен, во зайд ир? Ауфштеен! Шнель!
Говорил один, а второй чему-то смеялся – негромко и нестрашно, как русский. Я знал, что означало слово «ауфштеен», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверно, не мог сразу перестать чурюкать – ровно и напорно, как из спринцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами: «Ауфштеен», и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы, – я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица, в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот, я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтоб не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распущенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким, тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на мои петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их, – сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом – о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом; что они пришли в сарай так зачем-нибудь, потому что смеялись; что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать!.. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-моровом у нас на Курщине году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке набекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полунаклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукно воротника, – еще в Мытищах я прикрутил кубари так, чтоб держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах, а гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с «мясом», но очкастый крикнул: «Найн», и я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками отличий неизвестных нам с Васюковым армий, а на второй кровянились одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно, – между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго…
Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил: «Найн» – и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова.
– Вильст раухен?
Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал: «Битте» – и протянул маленькую, на пять сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубые коробки и три чужих руки, – глаза заплакали сами, без меня. Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца, – разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что мне нельзя закуривать, но коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и когда я потянулся к ней, Васюков сказал: «Не дури!» – и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого: тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным, красным пальцем, будто подзывал. Васюков вопрошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей.
– Он, наверно, требует мою сигарету, – сказал я. – Отдай скорей!
– Вот же ж падла! – тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней. Очкастый склонился еще ниже, выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на васюковский набрякший кулак и сказал: «Шайзе». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе…
Они ушли и заперли ворота на засов.
Мы остались вдвоем.
На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки, – по одному галуну на каждом рукаве…
Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но не глубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков прикурил от своего окурка «мою» сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки.
– Как вата, – сказал он и цикнул через зубы куда-то вверх.
Я промолчал.
– Тебе ж все равно нельзя было, – проговорил он.
– Ладно, – сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота. В Немирово тоже было тихо.
– Могут и не перейти, – немного сгодя сказал Васюков. – Она ж как-никак обрывистая. И вода там как-никак есть…
Он говорил про канаву-ручей впереди наших окопов, и я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном заграждении. Как-никак колья стоят. Они ж теперь вмерзли и… мало ли!
– Понятно, что вмерзли! – сказал Васюков. Он опять цикнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную.
– Слушай, Сергей, – заговорил он и оглянулся на веялки. – Я вот чего не пойму… Скажи, а куда ж делись наши танки? И самолеты? А? Или их не было? Понимаешь, ить с одними ПТР да с пол-литрами… Ну ты же сам все знаешь!
Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова:
– Про что это я знаю?
Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться.
– Да я ж одному тебе только! – напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки. – Что ж тут такого…
– Вот и помалкивай! – сказал я.
Там, у себя на воле, Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. И я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни родине, ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, – мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми… и вообще тогда все будет с нами быстрей и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое – и все!
Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул:
– Махал я их! Слышишь? Махал!
– Кого это? – спросил я.
– Ты знаешь. Особистов твоих!.. Вот теперь взять нас… Ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как?
– Боем. Огневые точки врага, – сказал я.
– Ты не прикидывайся дурачком, – сказал Васюков. – Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам – кисло было или как?
Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать.
– Не подымай фост! – ответил Васюков. – Что, с самолета нельзя разведать, да?
– А если его нету? – спросил я.
– Куда ж он делся?
– А его и не было!
– Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну? – фальцетом выкрикнул Васюков. Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про Перемота, про свою рану и плен и с мстительной обидой к себе, будто я один да еще он, Васюков, виноваты во всем, сказал в солому:
– Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет!
– Ну это ты не свисти! – угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел похоронно-трудно и мне нужно. Я ревел в голос, с верующим причетом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же:
– Кляп им в горло, чтоб голова не шаталась! Ясно? Кляп им в горло!
– Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва, стукнул… Между прочим, тут бураки есть. Цельная куча…
Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому.
Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко, – не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать, – соображал, наверно, потом сказал:
– Да на вид они, как мы. Одежа только не наша… Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все…
Когда ты не знаешь, о чем надо думать, – заживет ли рана и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину навылет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или Калач назначит взводным курву Крылова, кто напишет про тебя матери – Лапин или капитан Мишенин, – лучше б Мишенин, потому что письмо у него получится длинней, и мать не сразу начнет плакать, – когда ты не знаешь, об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами, и вот-вот ринешься вниз, и взорвешься миной.
– Ты не спишь? – хриплым полушепотом спросил Васюков. – В наступление, наверно, пошли. Чуешь?
За стенами сарая ревели немецкие танки.
– Может, забудут про нас, а?
Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно, разом, начали углубляться-вдавливаться в солому. В ней внизу непугано и занятно шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами, – может, не заметят. Но как только танки двинулись и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали ногами на запад, – это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали: они – вдвоем, видать – лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами.
– Русен, во зайд ир? Ауфштеен! Шнель!
Говорил один, а второй чему-то смеялся – негромко и нестрашно, как русский. Я знал, что означало слово «ауфштеен», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверно, не мог сразу перестать чурюкать – ровно и напорно, как из спринцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами: «Ауфштеен», и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы, – я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица, в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот, я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтоб не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распущенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким, тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на мои петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их, – сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом – о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом; что они пришли в сарай так зачем-нибудь, потому что смеялись; что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать!.. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-моровом у нас на Курщине году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке набекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полунаклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукно воротника, – еще в Мытищах я прикрутил кубари так, чтоб держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах, а гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с «мясом», но очкастый крикнул: «Найн», и я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками отличий неизвестных нам с Васюковым армий, а на второй кровянились одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно, – между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго…
Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил: «Найн» – и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова.
– Вильст раухен?
Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал: «Битте» – и протянул маленькую, на пять сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубые коробки и три чужих руки, – глаза заплакали сами, без меня. Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца, – разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что мне нельзя закуривать, но коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и когда я потянулся к ней, Васюков сказал: «Не дури!» – и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого: тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным, красным пальцем, будто подзывал. Васюков вопрошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей.
– Он, наверно, требует мою сигарету, – сказал я. – Отдай скорей!
– Вот же ж падла! – тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней. Очкастый склонился еще ниже, выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на васюковский набрякший кулак и сказал: «Шайзе». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе…
Они ушли и заперли ворота на засов.
Мы остались вдвоем.
На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки, – по одному галуну на каждом рукаве…
Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но не глубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков прикурил от своего окурка «мою» сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки.
– Как вата, – сказал он и цикнул через зубы куда-то вверх.
Я промолчал.
– Тебе ж все равно нельзя было, – проговорил он.
– Ладно, – сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота. В Немирово тоже было тихо.
– Могут и не перейти, – немного сгодя сказал Васюков. – Она ж как-никак обрывистая. И вода там как-никак есть…
Он говорил про канаву-ручей впереди наших окопов, и я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном заграждении. Как-никак колья стоят. Они ж теперь вмерзли и… мало ли!
– Понятно, что вмерзли! – сказал Васюков. Он опять цикнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную.
– Слушай, Сергей, – заговорил он и оглянулся на веялки. – Я вот чего не пойму… Скажи, а куда ж делись наши танки? И самолеты? А? Или их не было? Понимаешь, ить с одними ПТР да с пол-литрами… Ну ты же сам все знаешь!
Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова:
– Про что это я знаю?
Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться.
– Да я ж одному тебе только! – напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки. – Что ж тут такого…
– Вот и помалкивай! – сказал я.
Там, у себя на воле, Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. И я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни родине, ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, – мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми… и вообще тогда все будет с нами быстрей и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое – и все!
Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул:
– Махал я их! Слышишь? Махал!
– Кого это? – спросил я.
– Ты знаешь. Особистов твоих!.. Вот теперь взять нас… Ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как?
– Боем. Огневые точки врага, – сказал я.
– Ты не прикидывайся дурачком, – сказал Васюков. – Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам – кисло было или как?
Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать.
– Не подымай фост! – ответил Васюков. – Что, с самолета нельзя разведать, да?
– А если его нету? – спросил я.
– Куда ж он делся?
– А его и не было!
– Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну? – фальцетом выкрикнул Васюков. Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про Перемота, про свою рану и плен и с мстительной обидой к себе, будто я один да еще он, Васюков, виноваты во всем, сказал в солому:
– Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет!
– Ну это ты не свисти! – угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел похоронно-трудно и мне нужно. Я ревел в голос, с верующим причетом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же:
– Кляп им в горло, чтоб голова не шаталась! Ясно? Кляп им в горло!