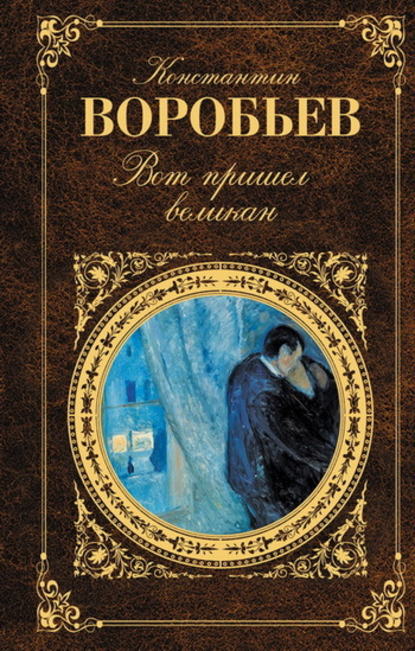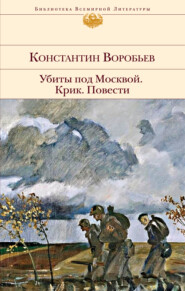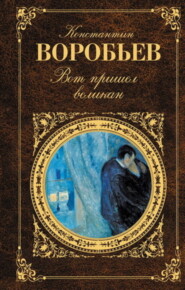По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Почем в Ракитном радости
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эй! Ты чего?
Я выдохнул воздух и сел. У кювета стоял маленький сердитый и как огонь рыжий паренек в стильной клетчатой рубахе и разбитых кирзовых сапогах.
– Ничего, – сказал я. – А что?
– Да ни хрена! Лежишь как убитый. Нашел тоже место! Я думал, случилось что. Перебрал, что ли?
– Да нет, – сказал я.
– А чего ж?
– Извини, – попросил я.
– Сперва напугал, а потом извини… Ну, пока!
Медведовку – наш райцентр – я увидел издалека с горки. Ни за что доброе не цеплялась тут моя память, но я должен был остановить машину, опустить боковое стекло и немного посидеть так, пока сердцу не стало легче от неожиданно радостной встречи со своим детством. Я так и не докопался тогда в себе, почему не хочу попасть в Ракитное днем. Наверное, дело было в машине – сияла она непомерно ярко. Я остановился в Медведовке, решив дождаться вечера. Здесь мало что сохранилось от прежнего. Иссох, превратясь в грязную лужу, большой медведовский пруд, исчезли, словно их сроду не существовало, тополя, заборы и палисадники. На площади не было тюрьмы, коновязи и базарных стеллажей. Теперь на этом месте стояло широкое, со всех сторон оголенное двухэтажное здание райкома партии. Чернозем вокруг него так плотно был утоптан, что казался асфальтом.
Я помнил все медведовские вывески – метровые листы красной жести с большими желтыми буквами. Теперь вывески были умеренные, черного стекла, но я долго искал ту, «свою» вывеску, водворенную на крышу низенького деревянного дома. Без нее я не представлял себе редакцию медведовской райгазеты. Мне хотелось найти тот домик, остановиться под окнами и просигналить. Да-да, обязательно погудеть, а потом выйти из машины, поднять капот и будто нечаянно взглянуть на окна редакции, – вдруг там покажется Косьянкин? Ему ни за что не узнать меня, я ведь постарел на двадцать пять лет…
Косьянкин… Ему тогда было под тридцать, а мне четырнадцать. Стихотворение, которое я послал в редакцию, начиналось так:
Фураж колхозники воруют,
Останков смотрит – наплевать!
Ему ведь что! Пускай таскают.
Весна идет, хотится спать.
Это я написал о председателе своего колхоза, – у нас в Ракитном почти все Останковы, и стишок напечатали, исправив «колхозники» на «воры» и «хотится» на «хочется». Мое ликование за себя, поэта, граничило тогда с болезнью, и на второй день после опубликования стишка я сочинил поэму о плохом ремонте сельхозинвентаря. Поэму редакция передала в подвальную статью, и с этого времени я стал бичом родного колхоза, – на муки и горе его становления газета то и дело призывала через меня десницу прокурора и меч райотдела милиции…
– Ох и трудным же оказался для Ракитного тот, тридцать седьмой год! Главное – хлеба не было ни у кого, и его пекли… из чего только не пекли! Мы с матерью тоже голодали, но я все не унимался и «критиковал», потому что о «положительном» писать еще не умел. То несчастье, которое выбило меня из Ракитного, случилось в метельный день конца февраля. Я брел по выгону из школы, и у обрыва Черного лога на меня напоролся мирошник колхозного ветряка Мирон Останков – мой родной дядя по отцу. Это он сам так сказал «напоролся», сгибаясь под тяжестью мешка. Мы долго стояли молча, – от непонятного страха я не мог сдвинуться с места, и тогда дядя сказал:
– Жмыхи несу… У свата Сергеича разжился…
Мешок лежал поперек дядиных плеч, налезая на голову, и дядина шапка съехала набок, закрыв правый глаз. Весь залепленный снегом, бородатый, с оголенными малиновыми руками, вцепившимися в концы мешка, дядя глядел на меня одним глазом, и глаз был неправдоподобно велик и белый-белый, как смерть.
Я побежал к селу вдоль обрыва, а дядя крикнул мне вдогон со слезой и злобой в голосе:
– Не губи! Свой я тебе!..
Зря он это крикнул – я не думал о чем-нибудь худом, я только испугался его глаза, и больше ничего. Дома мать подала мне мякинную лепешку, похожую на засушенный коровьяк, и письмо из редакции. То был «вопросник селькору», отпечатанный в типографии. Я стал читать его и есть лепешку, а мать всхлипнула и сказала:
– Ходила к Миронихе, думала добыть хоть махотку мучицы…
– Проживем и так, – сказал я, поняв, что тетка ничего не дала.
– Да глядеть-то на тебя мочи нету. Аж позеленел весь…
– Ну и пускай, – сказал я. – А ты больше не лазь туда!
– И Мирониха теми же словами проводила меня… А сами гречишные чибрики пополам с тертыми картохами пекут. Окунают в конопляное масло и трескают… Нешто ж ты им чужой!
«Вопросник селькору» призывал разоблачать двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов. Вечером я отнес к сельсовету и бросил в почтовый ящик самодельный конверт. А через неделю в Ракитное пришла газета с моей заметкой «Мирошник поймался» и карикатурой на дядю Мирона. Он не был там похож, и мешок тащил раза в четыре больше себя. Мать долго и не без тайной гордости разглядывала подпись под заметкой – «К. Останков», – потом заголосила, как по покойнику:
– Сиротинушка ты моя несча-астная, что же ты натворил-наде-елал!..
На том месте, где когда-то стоял редакционный домишко, плотники возводили стропила на новом срубе, и мне не пришлось сигналить и вылезать из машины. Тот домишко сгорел, видать, недавно, – в венцах сруба кое-где виднелись обгорелые кряжи-вставки, и к весенне-чистому духу оголенных осин примешивалась угарная горечь остывшего пепла. «Плохо горел, – подумал я, – надо бы до конца…» В восковом свечении сруба я старался не замечать отвратительные черные заплаты, – в конце концов они ведь закрасятся и не будут видны, но все же на кой черт понадобилось это старье плотникам? Из-за нехватки новых бревен? Вон же их сколько в неразобранном штабеле!
Плотников было двое. Они сидели наверху сруба и мерно, безостановочно тюкали там топорами, прорубая пазы для крокв. Как говорят у нас в Ракитном, работали они «спрохвала», будто зачарованные: тюкнут – и подождут какую-то секунду, пока эхо не ударится в стенку соседнего сарая и не отскочит мячиком назад, к срубу. Глядеть со стороны на такую неторопливо-согласную работу хорошо и одновременно трудно: вас начинает обволакивать какое-то покойное и вместе с тем обезволивающее оцепенение. Я сидел в машине и смотрел на плотников, прислушиваясь к тому, как в левой стороне груди впервые за многие годы у меня без валидола затихает «зубная боль». Особенно замечателен был старый плотник. На его большой лысой голове против всяких законов естества держалась маленькая, василькового цвета, энкавэдэвская фуражка – и каким только чудом-лихом занесло ее к нему на голову! Когда старик ударял топором, фуражка подпрыгивала и повисала то на правом, то на левом ухе, и каждый раз он водворял ее на макушку привычным и каким-то незаметно спорым поддевом ручки топора. Гладкое, до бубличного глянца отполированное топорище сверкало тогда зеркальным блеском, и старик успевал переложить на нем руки и тюкнуть топором вовремя, когда это и нужно было, чтобы не спутать лада ударов обоих топоров. На той же стороне венца, лицом к старику, сидел молодой плотник в теплой солдатской венгерке и кортовой кепке с матерчатой пуговкой на макушке. От обуха до седловины новая ручка его топора была окрашена фиолетовыми чернилами, – сам постарался, а топорище выстрогал, конечно, старик. Он тюкал и все время стерегуще заглядывал вниз, и вдруг с силой вонзил в бревно топор, ударил руками по коленям и сообщил старику с восхищенной завистью:
– Семую, дядь Саш! Ну, что ты скажешь, а?!
У подножия сруба, разгребая щепу, бродили куры – разомлевшие, круглые, красномордые, и на одной из них яро трепетал и бился огнисто-вороной петух.
– Эть, дурак головастый, – сказал старик, не прекращая работу, – у тебя только одно на уме…
– Так семую же за каких-нибудь полчаса, чуешь? И хоть бы хны ему!.. Ты давай погляди, погляди, что он выкаблучивает!
– Ай позавидовал? – усмехнулся старик. – Вроде бы не вовремя…
Искоса он все же заглянул вниз и сразу же переместил себя на другую сторону венца, а топор прижал к животу.
– Опять приперлись? – сказал он кому-то внутрь сруба. – А ежели, храни бог, топор сорвется вам на головы? Что тогда?
Я различил глуховатый мальчишеский голос, но не расслышал слов, а старик выпрямился и сказал напарнику осерженно и недоуменно:
– Нет, ты погляди-ка! «Брешет, – говорит, – топор не вырвется». Вот же согрешение!..
Напарник прилег на бревно и гулко, как в колодец, крикнул:
– Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и…
Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери не видимых мною детишек, и в тот же миг они – мальчик и девочка лет по шести – показались на гривке придорожной канавы. Они бежали молча – девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придерживая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям…
Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой гривке, по которой убегали дети, пробивались пятачки лопушника и над ним с чуть различимым стеклянным звоном толклись комариные столбы.
И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках…
Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с полевой дороги на выгон, не видя села. Оно рассеялось лицом на юг по склону, сбегающему к Ракитянке – изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мололи. Его давно надо было растащить на топливо. Он мог и так сгореть… от грозы, например. Или во время войны… Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом… Он же как на ладони тут!..
Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты, – в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы – кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты – может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал:
– Голову за пазуху не сховаешь!
Я пригнулся пониже, а дядя Мирон, подождав чего-то, шагнул на льдину и пошел ко мне – худой, большой и чужой. Он остановился от меня шагах в двух, поставив перед собой комлями вниз вязку лозы, уже покрытую серыми мохнатыми пуплышками.
– Ну? Схомячился? Давай побалакаем!..
Он меня видел, но я боялся и не хотел этого и поэтому молчал и не двигался.