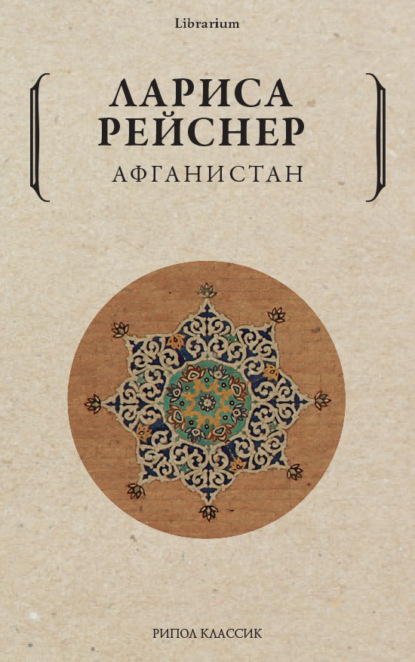По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Афганистан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нигде мертвое так близко не прикасается к живому. Справа обрыв, и на дне его цветущая долина реки Герируд.
Она вся засеяна рожью, и тысячи мелких ручьев, направленных с гор, бегут прямо по хлебным полям. Ножка каждого колоса, стебель каждого цветка, примешавшего к хлебу свой пурпур или синеву, сосет прохладную струйку воды, опьянен едва слышной, только для него поющей струной жизни. У нас спелый урожай сух, как золото, а здесь над рожью вечная свежесть горной воды, воздух садов, звон жаворонков пополам с плеском водопадов – вино и вода в стакане солнечного цвета.
Среди безмятежных полей – частые кладбища: песчаные холмы, похожие на желтые пузыри от ожога, и на них – ломаные осколки камней над обломками жизней: следы старых и новых побоищ и усмирений хазарейцев.
Красные, фиолетовые, буро-желтые зубцы совершенно голых гор стоят над долиной двумя стенами. Обе в древних коронах, обе близкие небу, в порфире бессмертия. Но когда-нибудь эти два хребта обрушатся друг на друга, и тогда не станет голубой реки Гери, которая между ними лежит, как свистящий, стремительный, пенистый меч.
Тропинка бежит под нависшими валунами; они, как исполинские каменные жабы, прижались к краю обрыва, готовые прыгнуть. За ними множество мягкотелых туфов, добрых, застывших на своих местах, точно собрание. И вдруг – кровь. Где-то в глубине пластов лопнули гранитные жилы. Может быть, сердце, оживлявшее семью великанов, переполнилось огнем и лавой и разорвалось на каменные брызги. Или, утомленные вечным окостенением, горы захотели ожить и идти и, оторвав от земли уже мертвое тело, изошли кровью, пораженные новым, еще более немым покоем. Но все кругом – обрывы, скалы, пыль и щебень, – все пропитано пурпуром, все красно и розово, как предсмертная пена, и даже мазанки пастухов – из глины, смешанной с драгоценной металлической киноварью.
Из такой глины был вылеплен человек.
X. Вершины
Вершины. Их покатые плечи в цветах, едва видимых, но крепко и нежно пахнущих. Их скаты блестят слюдой, малахитом и мрамором. Ветер, пробегающий здесь, чист и холоден, как ключевая вода. Но сами они неописуемы. Нет на человеческом языке таких слов, чтобы показать, как они все сразу поднимаются к небу, более дерзкие, чем знамена, более спокойные, чем могилы, – громадные, каждая в отдельности, и больше, чем океан, больше всего, что есть на земле великого, когда они вместе.
Может быть, большой поэт, стоя на безоблачной высоте, над которой спокойно плавают орлы, увидел бы и выразил весь свет, пролитый на металлические латы камней, эти дымки опалового, жемчужного и пепельного цвета, из которых зной и солнце подымаются в вечность, как неслыханные цветы, и легче, чем медузы. Или дикарь, герой, победитель: он бы взглянул и издал свой бранный клич, это смеющееся рычание, бесплотное и сладострастное, в котором все упоение при виде земли, которой можно обладать, все ненасытное сожаление о том, что ею нельзя владеть вечно.
XI. Живое
Среди пологих холмов встретили большие стада овец – маленьких, на крепких игрушечных ногах, мохнатых. Встретили домовитых сусликов, вечно мучимых ненасытным любопытством, и ящериц с квадратной головой, и много птиц, почти синих. Встретили и семейство гвоздик, которые объединились, срослись в общий корень и покрылись колючками, но запах у них все тот же, полевой, как у девушки.
Были еще белый шиповник, мох в розовых цветах и бледное небо, как всегда на большой высоте. Все это почти невесомо, почти без запаха и плоти. Закутанные, как в легкий иней, в дуновение мяты и лаванды, горы все-таки бесплодны, наги и огромны.
Последние девять верст вдоль реки, имеющей зеленовато-мыльный цвет, летим, как безумные, по совершенно белым известковым скалам. Песок не может быть более желтым, скалы не бывают белее этих, камни – острее, и не может быть небо из лучшего золота, расплавленного до того, что оно стекает на горные кряжи ослепительными потоками, не имеющими окраски.
XII. Баран
На одном из поворотов тропы обгоняем барана, которого гератский генерал-губернатор посылает в подарок эмиру.
Животное едет в особой клетке, перекинутой через спину вьючной лошади. Между прутьев выставляется только его великолепная, обезображенная голова: вместо рогов костяная шапка – два шара, сросшихся над его желтыми глазами фавна. Шелковистые длинные уши и доброе вытянутое лицо совершенно не согласованы со шлемом.
Он в нем, как ребенок в шапке взрослого. Сознавая нелепость своего положения, баран не ест и худеет, и поэтому сегодня вечером пошлют в горы за веселой, разговорчивой козой: может быть, она поможет. Двадцать слуг дрожат за здоровье печального барана, перетирают его ячмень, чистят ошейник с бубенцами и убирают помет. Все они будут биты до полусмерти, если с ним что-нибудь случится. Так по дороге, проложенной Тимуром и Александром и ставшей кровеносным сосудом, в котором смешалась ненависть двадцати завоеваний, шествует больной и капризный баран, и встречные пастухи и крестьяне сгоняют своих ослов в арык, чтобы уступить ему дорогу.
И когда они стоят, униженно и подозрительно озирая наш караван, отчетливо видны их профили македонских всадников с примесью персидской и еврейской податливости.
XIII. Рабат
Теперь о рабате. По всему пути, на расстоянии тридцати – пятидесяти верст друг от друга, лежат старинные гостиницы, когда-то крепости. Да они и сейчас сохранили воинственный вид: расположенные на скалах в неприступных гнездах, узких и каменистых, как западни. Квадратная стена, ров, узкие ворота, в которые вместе с караваном вливается студеный ручей, – все это как тысячу лет назад.
Конный двор отделен внутренней стеной от жилых помещений. Словом, каждый квадрат земли, каждую сторожевую башню можно защищать отдельно. В дальнем углу, вокруг особого, тоже крепко огороженного двора, выведена сводчатая галерейка, и тут под арабскими нишами пять или шесть комнат, отводимых путешественникам. Стены келий еще темны от зимнего огня, и они слепые, без окон. В потолке круглое отверстие. Ночью сквозь него на пестрые ковры льется лунный свет и неопределенное сияние азиатского неба, утром – золотой столб света, пыли и розовых листьев зари.
Посредине ковра зеленый бархатный тюфяк. На нем одеяло синее, на нем – розовое, на грязно-розовом – грязно-фисташковое, а сверху «хануми сафир-саиб», снедаемая отвратительными «верблюжьими» клопами. Скинув туфли, входят черные добрые разбойники-слуги с чаем, и сквозь тонкие пестрые чашечки (летом у акаций бывает такой тонкий, ломкий и прозрачный стручок) просвечивает румянец и узор ковра.
Странные люди – эти афганские слуги.
Сами они лишены всяких потребностей, им ничего не надо, кроме куска сурьмы, чтобы подвести глаза, хорошей лошади и ружья, из которого можно было бы всласть подстреливать иностранцев, попавших на большие дороги Афганистана, – и вот каждый из этих пастухов, наездников и садоводов оторван от седла и оросительного канала и обучен нелепому, фантастическому ремеслу, не имеющему ничего общего со всей его жизнью. Например, Фаизмамед, великан и красавец, подает к столу солонки, только солонки, не больше и не меньше. Он за них отвечает, они въелись в его привычки и поведение – эти дешевые базарные штучки со своим никелем и мелкими дырочками.
Худодад – вообще уже не Худодад, он – тарелки, которых сам, правда, не употребляет, но которые зашлепали всю его жизнь, то сальные, то чистые, то сложенные дюжиной, то недостающие тарелки. И ничего, кроме тарелок, навязанных ему чуждой культурой и чужими удобствами, Худодад не может, не видит, не понимает. Вы можете со слезами на глазах просить у него стакан воды – он придет с лицом, сосредоточенным и пустым, как у загипнотизированного, и принесет свою проклятую тарелку. Вообще мы живем среди наших слуг и конвоиров, как личинки в муравейнике. Они схватывают нас и несут на солнце, когда надо, кормят с усиков, защищают и переносят с места на место, повинуясь инстинкту, бессмысленному относительно каждого муравья в отдельности, но охватывающему весь муравейник мудрыми узами привычки и единообразия.
И точно так же, как Худодад относительно своих солонок и тарелок, поступает со своим полем любой крестьянин, любой пастух долины Герируда. От дедов и прадедов ему достался клочок земли, орошаемый непостижимо мудрой канализацией с целой системой плотин, водопадов, устий и истоков. Он никогда не знал и не узнает смысла и божественного происхождения воды, дающей ему хлеб и виноград, но, как правоверный свою молитву, лениво и механически исполняет великий обряд орошения.
И земля родит, пока где-нибудь в горах не обрушится античный виадук и песок не засыплет последние остатки давно исчезнувшей высшей культуры. И никто не поймет смысла и причины бедствия, ни у кого нет ключа к старому знанию, и поля чернеют, и каналы сравниваются с землей пустыни и соседнего кладбища.
Худодад, у которого разбита тарелка или недостает солонки, перестает быть человеком.
Один рабат похож на другой, и каждый вечер после трудного дня как будто вступаешь в те же стены, в ту же глиняную коробочку-комнату. Одинаково картавят дикие голуби, звенят колокольца отдыхающих лошадей, трубит вечернюю зорю рожок кавалериста. Тихо бесконечно, горы висят над нашими стенами, и на лицах и во сне остается спокойный загар, отсвет их мощных, коричнево-лимонных склонов.
Вечер – время чая, походных дневников и писем.
Так как мы – «сафир-саиб» (послы), то всякая работа, по местным понятиям, для нас унизительна, кроме письма, конечно. И к моей рукописи солдаты-крестьяне питают такое же уважение, как к старым могилам, убранным обломками греческого мрамора и рогами горных коз, или тем неразгаданным глыбам, которые иногда срываются с горных карнизов и падают на дорогу, все в тонких рисунках и тонких письменах.
XIV. Водолей
Сквозь дремоту, усталость и лень проникает охлаждающая струя – пыль, смешанная с водяными брызгами.
Это водолей, комичным и несколько двусмысленным образом держа перед собой устье бурдюка, поливает наш двор. Его складчатые синие штаны завязаны у голых щиколоток. Свободный конец тюрбана, он же полотенце, обмотан вокруг сухой черной шеи, и на него спускаются концы длинных, грустных усов. Водолей получает четыре рупии в год, его кормят впроголодь, и ежедневные переходы впереди каравана он совершает верхом на осле, который пронзительно и похотливо визжит, показывая из-под вьюка черные уши на белой подкладке. Его путь украшают остовы лошадей, павших на крутом перевале, ободранных, красных и страшных, с уцелевшими копытами на красных голых ногах, и кучи лошадиного помета, уже снедаемого жуками и мухами, едва он коснулся пыльной тропы, – так жадно здесь мертвое проглатывает куски жизни, отставшие от длинного, бесконечно изнуренного каравана.
Водолей – самое низкое лицо на рабате, ему не делают селяма ни заведующий чаем, у которого за грязной пазухой хранится дюжина красных чашек, вложенных друг в друга розаном, ни конюх, намазывающий глиной рога эмирского барана, ни собиратель сухого помета, которым зимой топят очаги.
XV. Высоко
Альпийский холод. Дорога вьется по вершинам, соединенным высоким плоскогорьем, и по внешнему виду пологих пирамид нельзя угадать, что они – корона цепи 14 000 футов вышиной. Холодно. Суровая, металлическая трава шелестит, как венки на похоронах, и только кое-где на серых алтарях высоты тлеют желтые свечи со слабым, как бы выветрившимся дыханием – единственные цветы мертвых гор.
У ручьев, выложенных изумрудным бархатом, когтистые и седые развалины македонских крепостей, охранявших горные проходы и прохладные пастбища, так похожие на гористые луга Северной Греции.
Высоко в бледном небе дерутся белые, как метель, орлы.
XVI. Камни
Все тот же возвышенный холод.
Горы обрызганы темной росой редких трав, они пологи и песчаны. Но везде из-под зыбкой пыли выступают камни, и на них страшно смотреть, так они бесконечно стары, так разъедены и разрушены временем. Уцелело только то, что действительно вечно. И, обглоданные, источенные веками, они сами еще больше, еще сильнее хотят истлеть. Кряжи, острые, как нож, отделяют почти солнечную пыль, в течение столетий раздирают свои крохотные трещины, разверзают их немыми усилиями, крошат и сбрасывают пепел с зазубренных краев, как остатки иссохшей кожи. Точно эти валы окаменевшего океана бесконечно устали быть и, раздавленные собственной тяжестью, ищут соединения с легким прахом, мягко засыпающим их склоны. Нет молодых камней – нет новых громад. Нежнейший желтый мрамор, и розовый, и серый с черными венами – все они хранят и расточают блеск, приобретенный на заре мироздания, они вянут и потухают из века в век, эти гранитные цветы, эти букеты из мрамора.
И дни, бегущие на ровной, старой высоте, тоже не новые. Все они уже были – и облачные, и ясные; все они выходили из щелей и оврагов, из сырости бешеных горных рек и тысячи раз умирали на зубчатых, голых хребтах, и, уходя в вечность, каждый вечер говорил земле: «Я вернусь опять, пока ты не разрушишься до конца, пока последний из твоих камней с радостным вздохом не обратится в прах».
XVII. Смерч
Там, где стрела солнца крепко вонзила золотое острие в мягкую пыль, вон там, между кусками лавы и кустиком лаванды, курится легкая, седая струйка тепла. Песчинки пляшут и пляшут в напряженном воздухе, который на месте образует тонкую, вертящуюся воронку.
В нее вливается солнце, солнце ее переполняет и уже течет через бирюзовые края, как горячее вино из тесного и захмелевшего сосуда. Волчок из пыли вращается все быстрее, и вдруг это уже пляшущий костер, и костер продолжает неистовый, круговой, пылающий танец.
Он движется, бежит, из крутящегося огня подымается седая колонна, обезумевшая, наклоненная башня с дымными знаменами на воспаленной вершине. Основание ее скомкано. Серый колдун со связанными ногами несется в гору; дерево, растущее ежеминутно из огня в пустоту неба, в безветренной буре развевает свои ветви, согнутые в дымные хлещущие луки.
XVIII. Ночлег
Тени лежат на почернелом потолке, и свеча под желтым колпачком шевелит и двигает их по ветхому своду, как полководец свои полчища.
Одна доска двери выбита, и в эту дыру видно ночь и небо. Я лежу очень тихо и по замедленному сердцебиению, по странным спазмам чувствую, что жизнь мою сейчас переполнит то немое и безыменное чувство, блаженное страдание, у которого самые остро режущие, прозрачные и сладостные края.
Другие электронные книги автора Лариса Михайловна Рейснер
Фронт




 0
0