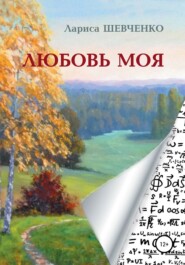По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вкус жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(Много-много лет спустя, оглядываясь на прожитую жизнь, она поняла, что никто никогда больше не жалел, не успокаивал ее, никто так не был с ней нежен и ласков, как та няня. Она больше никогда так остро не ощущала любви сострадающей. Вот откуда в ней постоянная тоска и неожиданно бурные, вроде бы беспричинные слезы! Душа всегда желала тепла и любви, а их не было…)
Потом появился дедушка, потом бабушка. Но то было совсем другое… и по-другому…
Никогда в ней не было легкой беззаботности, которая дается человеку в детстве, в родной семье и остается с ним навсегда. В ней постоянно присутствовало настороженное, томительное отношение ко всему происходящему, которое накладывала и выказывала болезненная память о прошлом и никогда не исчезающая тоска… Отсюда в глазах грусть и безнадежность, так несвойственные ее возрасту.
– …Я не задавалась таким вопросом. Не занимала меня эта проблема. Не берусь утверждать, что настал ее черед. – Голос Жанны прервал ход мыслей Инны, и они, вяло заскользив по узким каналам памяти, незаметно рассеялись.
И, тем не менее, немного поспорив с Жанной, Инна опять окунулась мыслями в воспоминания.
…Иногда рассказы Лены окрашивались в цвет сиюминутного настроения… Здесь, в деревне, ее тоже обижали, но никто не слышал ее стонов, и на лице ее ничего невозможно было прочесть. На людях почти всегда улыбка «рот до ушей»: она всем довольна. И никакой взрослый никогда не мог догадаться, о чем она думает. Правда, иногда взгляд грустных, недоверчивых глаз опровергал первое впечатление, не укладывался в привычную схему взрослых, но лишь я знала, что эта ее веселость продиктована глубокой внутренней трагедией, только я иногда видела ее редкие, но такие безутешные слезы. Отревется где-нибудь за сараем или в огороде, и станет ей легче, хоть и не полностью. Чем еще заглушить свое иждивенческое горе? Чем остудить закипающие жгучие обидчивые слезы? Разве что представить, будто все, что вне ее, как бы отодвигается далеко-далеко и не касается никаким боком?..
А математичка ее сразу поняла. «Лена интроверт. Она только внешне веселая и бесшабашная. Она живет своим внутренним миром, стараясь не замечать неприятных сторон бытия».
Мать… Казалось бы, надо было рассказать ей про все эти девять лет. Но та боялась услышать правду, а сама она не могла начать столь болезненный разговор. (За всю жизнь так и не случилось того, что могло бы их сблизить. Не складывались у них отношения. Так и не стала она родной…)
Лена глубоко запрятала минувшее и стала жить настоящим: непонятным, не полностью осознаваемым, тяготившим ее, как досада или заноза. Непостижимость происходящего в семье беспокоило, больно задевало ее. Незнание распаляло воображение. Без правильного понимания прошлого в ней не формировалось истинное настоящее. Каким-то временным казалось ей проживание в семье, в подвешенном состоянии себя чувствовала. Ей нужно было время, чтобы самой во всем разобраться. Еще этот отчим… его злорадные надсадные смешки с привкусом презрения и принижения. Он был в эти годы ее самым большим кошмаром. Из-за него период ее адаптации в этой семье так и не закончился. Ни укрыться, ни заслониться. А эти неопределенные, трудно расшифровываемые взгляды соседок, их невыносимо тягостная неискренняя жалость. В ней сквозили пошлость и непорядочность. Им всегда больше всех надо. К чему бередить запретную тему?.. Дай бог терпения, не природного, натренированного.
Только однажды она сказала бабушке как бы между прочим, мол, иждивенцев и незаконнорожденных детей матери не любят. На откровенность вызывала?.. Почему мать держала Лену в жесткой узде? Боялась ее прямоты? Боялась мужа?.. Вот и стояла Лена перед ней всегда как замороженная и молчала, уйдя, как считала мать, в свою неблагодарность. Что она понимала в Ленке!
…У нее был удивительно красноречивый открытый взгляд. Людям, которые ей лгали, он говорил одно и то же, но в каждом случае по-разному: «Зачем? Я же все понимаю». Взрослые не выдерживали и отводили глаза. Они неловко переминались или раздражались, но замолкали. «Понимаешь, – жаловалась она мне, – вижу, что нагло обманывают, злюсь, но ничего не могу поделать. Будто в ступор вхожу. Не могу себя перебороть. Не умею «отбрить» обидчика как делаешь это ты». Она так искренне удивлялась непорядочности или неправильности взрослых! Никак не могла привыкнуть. Не хотела…
Возмущалась: «Говорю дяде Леше, мол, зачем вы мешок картошки с размаху на спину забрасываете? Так ведь спину можно сорвать. Мне когда тяжело, я сначала на табурет, потом на стол его взволакиваю, а потом уж на плечи беру и тащу». А сама думаю: перед кем он тут выхваляется? Кто его тупость оценит? Я, например, за разумный подход в любом деле. И ты думаешь, он меня послушал? Как бы не так! Он же мужчина, а значит, по определению умный. А теперь, как приходит время сажать или убирать картошку, так он в больницу бегом. Жена одна управится, осилит, женщины выносливые. От силы без ума толку мало» Совсем как старушка рассуждала. Мне бы и в голову не пришло приглядываться, кто как работает, а ей до всего дело было, всё замечала, всё пыталась понять.
«А как-то иду на станцию за хлебом. Гляжу, мужики по реке за лещами гоняются. Больная рыба почему-то поверху плавает. А реку уж первый тонкий ледок прихватил. Я заволновалась, кричу, чтобы вылезали поскорее, пока почки не застудили. Куда там! Увлеклись, визжат от восторга, как дети малые. А потом с ними жены будут, как с детьми малыми нянчиться… Ну, не может же быть, чтобы у ребенка больше было рассудительности».
И на меня один раз очень даже рассердилась. Я посмеялась над «заскоком» своей бабушки, мол, каждый год сушит мешок сухарей и прячет в погребе спички, керосин и ящик соли. Так Ленка мне целую лекцию прочитала о жизни своей бабушки: как та с детства батрачила у жестокого помещика, про голод, про три войны. Совсем застыдила. Будто сама все это пережила. Никогда я не видела ее такой злющей. Оказывается, ее бабушка тоже страдает тем же «недугом». В «печенке» у нее сидит страх перед голодом.
…Лена никогда ничего не просила у родителей. Сначала, сразу после детдома, она не знала, что можно что-то просить, но довольно скоро поняла, что она не тот человек в семье, который может себе это позволить. Конечно, поначалу не всегда ей хватало выдержки не зареветь. Случалось, что детское мужество покидало ее, и она убегала. Какой уж тут триумф воли?.. Научилась и этому. Причем первым делом. Кому охота играть на поражение, есть же самолюбие.
Лена всегда искала в себе созвучие с хорошими людьми. Бабушка для нее была воплощением справедливости и мудрости. Она очень любила, уважала ее подлинную, тихую доброту. Хотела заслужить ее одобрение, мчалась к ней по первому ее слову «в полной боевой готовности». Нет, чтобы как я: взбрыкнуть, отказаться. Говорила о бабушке с нежным чувством, вызывающим слезы. И она ее тоже любила, но внешне своих чувств не проявляла. Защищала. Мать начинала выговаривать, а она ей: «Как ты любишь все усложнять. Не бери в голову, не забивай мозги мелочами».
Не принято было в их семье произносить высокие слова, хвалить, громко восхищаться. Мать, правда, иногда смеялась, но как-то осторожно, скованно. И улыбалась натянуто, безрадостно; что-то ее тревожило, не давало в полную силу порадоваться. Позже Лена поняла: гуляет отец. Жалко ей было мать. И бабушка мало в жизни хорошего видела, оттого и неулыбчивая, но добрая. У нее печальные глаза, скорбно сжатые губы, глубокие морщины, как трещины на обезвоженной земле. Они от недостатка радости в жизни.
Лена рассказывала: «…Старательно орудую частым гребешком. С характерным шорохом падают на газету противные козявки. Я их с гадливым чувством давлю, не давая сбежать ни одной «заразе». У меня волос-то всего: ежик да чубчик. В детдоме не баловали разнообразием причесок, всех на один манер стригли. И где же они, гады, прячутся, где находят укромные местечки? Уж не в ушах ли? Каждый день их рьяно вычесываю, зло уничтожаю, каждую субботу их керосином морю, а они не кончаются. Мне неловко от того, что принесла в их семью этот факт нечистоплотности, поэтому не только не перечу бабушке, не пререкаюсь, когда напоминает, но и сама стараюсь не забывать по три раза на дню исполнять эту неприятную гигиеническую процедуру». Она панически боялась, что в школе заметят ее позор. Боялась слов матери: «Обвинят. Скажут, недосмотрела, запустила ребенка».
Потом еще рассказывала: «…Никогда не забуду, как тяжело болела. Температура далеко за сорок. А моему телу легко, я его совсем не чувствую, такое удивительное расслабление, будто каждая клеточка отдыхает и радуется. Я перестала ощущать боль и пришла в какое-то одухотворенное возвышенное блаженное состояние. До сих пор его помню… Я не понимала, что умираю. Но мой ангел-хранитель спас меня. А потом была неделя жутко болезненного состояния, ночи мучений. И каждый раз, открывая глаза, видела бабушку, склоненную надо мной или на коленях молящуюся о моем выздоровлении.
Я всегда подчиняюсь бабушке с покорностью и радостью. Она никогда не повышает голоса, но я беспрекословно повинуюсь ее укоряющему взгляду. Я боюсь ее обидеть, сделать не так, как она просит, очень переживаю, если что-то не получилось. Бывало, хожу, опустив голову, и никак не могу извиниться. Язык не поворачивался. Боялась, заговорив о своей вине, заплакать и еще больше расстроить бабушку. Но она умела понять, простить и успокоить взглядом, словом или ласковым прикосновением к моему вихрастому затылку. И меня отпускало.
…Бабушка попросила меня помочь ей отрубить голову гусю, мол, руки ослабели, не удержу и топор и птицу. Какой ужас охватил меня, когда по моей вине этот красавец после совершения над ним экзекуции, вдруг побежал по двору без головы, растерянно хлопая крыльями! Бабушка приказала мне догнать беглеца и завернуть в мешковину. Потом посадила рядом с собой ощипывать. Я преодолевала себя и старательно училась новой работе.
…Но как-то хотела бабушка послать меня на рынок овощи продать. Я взмолилась: «Как угодно наказывайте, хоть на хлеб и воду сажайте, но торговать не пойду – и все тут». А в голосе – страх, что станет бабушка настаивать. Она ушла на кухню, чтобы я сама справилась со слезами. Мне трудно, очень трудно противоречить ей. Сгораю от стыда, что не оправдала ее надежд. Начинаю размышлять, и вовсе становится невмоготу. Ну, не могу я переступить через себя, через то, что протестует во мне и упорно твердит: не мое, не мое это! Я не хочу пересиливать себя, иначе во мне что-то произойдет, сломается. Я это чувствую. И бесполезно на меня давить.
Осторожно захожу в кухню. Бабушка с интересом смотрит на меня. Она что-то во мне понимает. Считает, что в умном благородстве больше достоинства, чем в излишней строгости?.. И я уже знаю – прощена. Я шепчу: «простите», срываюсь с места и бегу во двор. Внутри меня все дрожит. Чтобы успокоиться, я должна поплакать. Это несколько позже я научилась гасить слезы физическим трудом. Умственным – не получалось. Мысли и обиды переплетались, образуя еще бо?льшие наслоения раздражения, они свивались жгутами и затягивали в темную бездну непонимания и обид.
…Как ни стараюсь быть хорошей, ошибки все равно совершаю. И не признаюсь. Наказания не боюсь, стыдно… Когда слишком долго откладываешь признание, его сделать становится все труднее и труднее. А потом и вовсе это оказывается невозможным. Пристыженная, я не смею поднять на бабушку глаз. Почему только на нее? Она для меня идеал чистоты и доброты. Стыжусь ее, потому что люблю. От отца вижу каждодневное незаслуженное презрение, от матери – страх за себя. Я ей тоже в тягость. Изводит меня ее страдальческое, упрекающее выражение лица, такое безотрадное, удручающее. А в чем моя вина? Не по своей воле я тут.
Я привыкла к одиночеству, к разговорам с самой собой, к постоянному анализу, перемалыванию и перетиранию любой ситуации, потому что страдания и разлад были моими постоянными гостями. Я не испытываю даже минутной мрачной радости от желания совершать подленькие гадости. Страшно боюсь стать плохой. «Глупо делать себе во вред», – рассуждаю я разумно. – Так почему же иногда попадаю в неприятные истории? Боже мой, Боже праведный! Так ведь по глупости, по неопытности. В детдоме смеялась над мальчишками, над тем, что они сначала совершают поступки, а потом думают. А сама? Но там, в мире детей, все было просто и понятно. Да, случается быть не на высоте… Как говорит учительница: «Это время, когда жизнь состоит из познаваний, горьких и грустных уроков, из начал и начинаний. И конца им не видно…».
«Тот давний детский стыд за ошибки до сих пор не забылся. Не переболела я им до конца, не простила себя… Свои хорошие дела мы быстро забываем, а неправильные преследуют и мучают нас всю жизнь», – говорила Лена много позже, уже будучи взрослой.
А меня хранение маленьких тайн будоражило, а не беспокоило, как Лену. Тайны способствовали возникновению взрослого чувства собственной значимости.
«Наверное, многие дети проходят эти врата ада», – говорила Лена грустно, пытаясь усыпить свою взбунтовавшуюся совесть. А мне было странно слышать ее признания. Я проще относилась к подобным мелочам. «Я тоже ни в коем разе не сознаюсь. Бабушка даже в сердцах обзывает меня остервенело упрямой ослицей. Ну и что? Не вижу в том трагедии. Всегда можно придумать себе оправдание», – хотелось мне сказать Лене. Но язык не поворачивался успокаивать ее таким образом. Наверное, глубоко запрятанная совесть сковывала его. В эти минуты я уважала Лену, считала ее выше, тоньше, правильней себя. «Она ведь живет в мире чувств и эмоций, витает в облаках. Она такая романтичная и такая хорошая!» – думала я. Мне хотелось быть на нее похожей. А Лена восхищалась моей уверенностью, нечувствительностью к обидам, способностью легко и просто воспринимать житейские передряги. Она не знала, что я часто самым жалким образом отступаюсь от намерений и обещаний, и при этом самозабвенно навешиваю бабушке лапшу на уши. Сначала виной тому была жёсткая мать, потом привыкла к такому поведению, научилась юлить, изворачиваться.
…Как-то били мальчишки бродячую собаку за дело – курицу сожрала – и Лена занесла палку, но не смогла ударить. Ушла в кусты, чтобы ее нельзя было увидеть и в чем-то обвинить. Но кур и гусей, скрепя сердце, рубила, потому что бабушке одной было не справиться. А что поделаешь? Такова деревенская жизнь, где все всё делают сами. Даже скот забивают: телят, поросят, хоть и жалко бывает их до слез, потому что сами выращивают. Но ведь заранее знают: для чего и для кого… «Проще и добрее деревенских людей с их грубоватой, нежно-жалостливой душой я не встречала», – говорила мне Лена.
…Мать Лене казалась ростом выше отца, потому что была громогласна и строга с ней. У нее один с ней разговор: не умничай. Она боялась ее. Отец тих и каверзен. И, тем не менее, последнее слово во всем отдавалось отцу. В отношениях родителей постоянно чувствовалась недосказанность, будто скрывалась какая-то неприятная тайна. Часто говорили недомолвками. Это раздражало и пугало ее. Ссорились в семье, не доходя до крайностей, и редко. По-интеллигентному. Заканчивались ссоры длительным напряженным молчанием обеих сторон…
Свое школьное детство Лена воспринимала как вынужденное (по причине иждивенчества) тюремное заключение за высоким забором, заточение в четырех стенах. Ни свободы, ни беззаботности в нем и близко не было. Невозможно было изучать окружающий мир. Он был ограничен домом, двором, огородом и нечастыми походами за продуктами. Тупая монотонная жизнь. А уж об играх с подругами или о прогулках по селу вообще речи не шло. «Неужели мать не понимает, что я ребенок?.. Все было бы терпимо, если бы не приходилось постоянно сравнивать два мира: свой, подневольный, и свободный – брата и сестер. И становилось невообразимо грустно. Но на них не обижалась. Они ни при чем… Грустила и с еще большим остервенением выполняла каждодневную, отупляющую работу по хозяйству, чтобы отвлечься, забыться. Но мысли-то, мысли-скакуны… их не запряжешь, не обуздаешь».
А работать она любила в одиночку. Смеялась: «Если получится, приятно, что дело быстро сладилось, а коли не выйдет сразу, то не на кого обижаться. Сама позже тишком переделаю и знать никто не будет». «И свалить неудачу не на кого», – подшучивала я. Лена всегда добивалась, чтобы у нее лучше всех получалось, даже если делать приходилось какую-то общую работу. Ценила она в себе достоинство труженика, слишком серьезно к нему относилась. Я не понимала ее, но не дразнила. Даже не знаю, что меня удерживало?
Наших деревенских подруг родители пугали привидениями. А Лену ими не напугаешь, она знала самое страшное – жить в ранние детские годы без родителей. А все эти приведения… такая мелочь!
Школа – вот где для Лены была настоящая жизнь! На уроках слушала учителей, держала весь класс в поле зрения, а руки знай рисовали рожицы. И ни одной одинаковой! Стишки писала и тихонько по классу «пускала». Всё успевала, всё у нее ладилось. Училась отлично, подругам объясняла трудные задачки. И с какой радостью! Она сразу заняла в иерархии класса одну из верхних строчек. Правда, подлинный интерес к учебе у нее впервые проявился только в четвертом классе, когда учительница стала рассказывать о строении вселенной. Зацепило так, что целый урок сидела молча, не шелохнувшись… Но и в школе она была под колпаком, под постоянным присмотром недремлющего ока непомерно строгой с ней матери.
А я плохо выносила пытку уроками. Для меня честь школы и честь ученика часто не совпадали и даже вступали в противоречие. Неписаные законы были мне важнее писаных, по которым сказать правду означало потерять друга. Они освобождали меня от панциря предубеждений. «Бывают моменты, когда дружба дороже истины», – считала я. Но друзья у меня были не из числа школьников, а уличные, потому что своим дерзким поведением я отвратила не только учителей, но и одноклассников. И, тем не менее, та деревня для меня до сих пор, хоть и навсегда потерянный, но милый рай детства.
А Лена не замечала моих фокусов. Когда ей было в них вникать? Ей же надо успеть сделать миллион мелких домашних дел и урвать минутки для чтения. Ведь в нем она видела единственную свою радость в семье. Я никогда не читала в охотку, в кои веки брала в руки художественную литературу, и то, если ее приносила и очень расхваливала Лена. Куда проще прикинуться дурочкой. Спросу меньше. Но я с интересом слушала Лену, когда она на переменах коротко пересказывала одноклассникам содержание книг, прочитанных ночью, под одеялом. И только после тридцати лет меня неожиданно охватила лихорадка приобретения и чтения художественной литературы.
Ленка считала необходимым учиться отлично, а я пыталась держаться крепкой четверки, что до девятого класса мне редко удавалось, хотя Лена, когда я не сопротивлялась, все перемены отдавала мне. А как-то, будто вскользь, заметила удивленно: «Гордишься незнанием и ленью?..» Это потом, в городе репетиторы два года восполняли пробелы, подтягивали мои знания до нужного уровня. Мать не слезла с меня, пока я не поступила в вуз. А Ленка сама как проклятая прорешивала все задачники, которые удавалось выпросить у учителей. Ей доставляло удовольствие получать правильные ответы в самых сложных примерах и задачах.
Было время, когда родители не позволяли Лене водиться со мной, потому что я будто бы плохо на нее влияю, мол, о ней люди по мне будут судить. Ясное дело, подавляли они ее волю, боялись, что выйдет из-под их рабского контроля. Им надо, чтобы она у них по струнке ходила. А она им тихо и сердито дедовы фразочки под нос: «У Иуды друзья были безупречными», «Настоящая дружба делает нас людьми». Вот как вклеивала промеж глаз!
Нового своего отца Лена за многое не любила. Старалась проскочить раньше него или увильнуть в сторону, чтобы лишний раз не встретиться с ним, не получить незаслуженную, обидную колкость. Она замечала, как корчится он от злости с каждым ее новым достижением. Но и его ей бывало жалко. А он называл ее уродиной (и это при том, что старшие мальчишки негласно считали ее на мордашку самой красивой в нашем классе). Но что-то внутри нее сопротивлялось словам отчима, и она не придавала им значение. Не трогали они ее. Не нравился ему и ее высокий рост. И он презрительно изрекал, мол, располнеешь, станешь огромной тетехой. А она, оглядывая свое тощее телосложение, с беззаботной улыбкой отвечала: «Когда это еще будет?» И отправлялась во двор выполнять свои ежедневные обязанности. Помимо обычных каждодневных дел ей доставались и самые неприятные. Ее отряжали чистить курятник, таскать вонючий навоз из-под поросенка. Меня начинало тошнить, даже когда я просто представляла, будто делаю это сама. А она спокойно отвечала на мое удивление: «Бабушка одна не справится. Я научилась преодолевать себя. Это совсем нетрудно: настроишься – «и вперед и с песней». Такая шутка у нее была на случай, когда ей было противно. Наверное, именно тогда она научилась укрощать себя и целенаправленно приучать каждый раз делать хоть на немного, но больше, чем делала днем раньше. Может поэтому взрослой она с легкостью управлялась с любой работой, будь она физической или умственной. А вот отдыхать она так и не привыкла.
Все она умела делать по хозяйству. Любая работа была ей по плечу. Никто никогда от нее не слышал: «не хочу», «не буду». То ли врожденное трудолюбие ей помогало, то ли привычка подчиняться старшим? Вот и брал ее отец собой повсюду. Как-то поехал к председателю насчет сена договариваться. По болотам и кустам, в овраге не больно-то много травы насшибаешь, а корове надо в зиму пять возов.
Стыдно было ей слушать разговор взрослых. Директор пищевого предприятия, парторг, депутат, уважаемый на селе человек, а председатель с ним как с провинившимся мальчишкой, пришедшим выпрашивать прощение и готовым чем угодно загладить свою вину. Зло ткнул ему самый захудалый участок за двадцать километров от дома. На нем и трех возов не наскоблишь, как ни старайся. А где остальное добирать?
Не хотела она, чтобы унижался отец и перед бригадиром, чтобы не пил с ним из-за сена. Он и сам не уважал бригадира. И себя в этот момент презирал. Противно было льстиво улыбаться, хвалить, дружелюбно похлопывать по спине. Но не одолеть ему двадцать возов сена. И нашему соседу не потянуть эту «барщину», – он с войны раненым вернулся и чахнет потихоньку… Не отменить крепостнический указ районного начальства, по которому из десяти возов заготовленного сена работнику причитался только один. Вот и пил отец с противным бригадиром, подобострастно кивал, а сам, наверное, в душе плевался, кривился, но терпел. Когда голову вскидывал, приглаживая назад остатки своих черно-седых волос, она замечала, как прячет он глаза, избегая ее прямого взгляда. Век бы не видеть такого!.. Вот так и мучились оба от несовпадения души и реальности…
Начальники будто нарочно такой указ сочинили, чтобы унижать одних и давать возможность почувствовать свою власть другим. А отец, зло хмыкая, говорил матери, мол, пусть знает, как молочко достается. Лена молоко очень любила. Но слова эти ее обидели. «Я отрабатываю свое проживание», – беззвучно шептали ее губы. И при этом бледнело лицо и вытягивалась в напряженную струну и без того тощая фигурка.
Бабушка все понимала и просила ее не спешить осуждать людей, правильно истолковывать, прояснять. А что ей, слабенькой здоровьем, еще оставалось делать, как ни успокаивать, чтобы не ляпнула где-нибудь что-либо по глупости, по наивности да не навлекла беды на их семью… Бабушку она жалела и все приговаривала: «Не плачь, вырасту, выучусь, к себе тебя заберу». Не дождалась, бедная…
Дома и в школе ее вроде бы учили тому, что совпадает с ее сердцем, а в жизни она видела другое, поэтому ничего лучшего не могла придумать, как отгораживаться от реальной жизни, потому что попытки выступить против кого-то и чего-то всегда заканчивались плачевно.
Она молчала, но все равно испытывала стыд, будто врала. И тогда день уже не радовал, и дела не ладились, все летело вверх тормашками, путалось, смешивалось. И ехала ли она на возу с сеном по расхлябанной дороге, повисала ли на веревке, закрепляющей комель (бревно с насечками по концам для веревки, оно прижимало сено, чтобы его не растрясло по дороге), а сама все думала, думала. Лошадь маленькая, а вон какой воз везет… и она сумеет, всё вынесет, всего добьется…
Как-то жаловалась: «Взрослые сами запутывают свою жизнь, а потом говорят «се ля ви», оправдывая свою несдержанность или неспособность противостоять соблазнам. И детям жизнь портят. Они наворочают черте чего, а нам разгребай. От нас требуют честности, а сами юлят, изворачиваются. Плохие люди затягивают в свои сети хороших, но слабых, ставят их в безвыходное положение. Порядочным можно остаться, если только ты носа не высовываешь дальше своего огорода. А если захочешь добиться большего – ныряй в общий котел». Порой мне кажется, что она в душе так и осталась той наивной девчонкой, не желающей прыгать в котел и отстаивающей свое право на полную независимость.
Никогда не хотелось ей быть как все ни во мнении, если оно не совпадало с ее собственным, ни даже в таких мелочах, как одежда. Только она еще в первый год своего появления в деревне уяснила, что если одежда не нравится, ее все равно придется носить, и если с чем не согласна, обязана будет молчать. «Жизнь заставляла внешне смиряться. А что в душе? Какое кому дело до души, до того, что по-прежнему болезненная память частенько по утрам глумливо откликается голосом гадкой воспитательницы, и шпыняет, шпыняет, пугая и надолго выбивая из равновесия; и что это темно-синее платье точь-в-точь детдомовское, и ее тошнит от него; и что по некоему молчаливому уговору она обязана никогда не заговаривать о… Да ладно, «замнем для ясности». Конечно, достаточно одним глазком заглянуть в ее душу, чтобы убедиться, что она не капризна, не своенравна, просто слишком чувствительна. И я уговаривала: «Не ищи одиночества. Прикладывай усилия, чтобы не остаться одной».
…У каждого ребенка рано или поздно разрушается идеальное представление о родителях или о других любимых людях. Это всегда страшно тяжело, но, наверное, неизбежно. Сложность заключается в том, что у ребенка даже мелкие разочарования оставляют слишком глубокие раны, которые, запрятавшись глубоко-глубоко, кровоточат всю жизнь. Что уж говорить о чужих людях, которых пытаешься полюбить и простить. А если оказывается, что они не чужие… это еще большая трагедия. Лучше бы сразу, наотмашь, если фантазии не хватило придумать интересную байку, похожую на правду… Мы же в детдоме придумывали и верили.
Наверное, можно простить отца и мать, если они оставили тебя большой, а в детстве растили… Трудно полюбить, если узнала их слишком поздно, когда раннее, беззащитное детство прошло без них. Хотя если любят, наверное, можно. Но это если любят… А может, они все-таки чужие?»