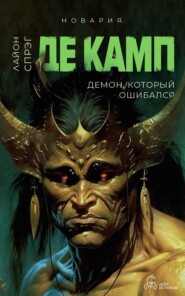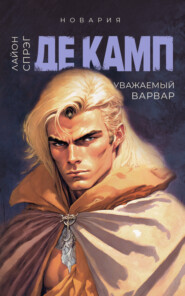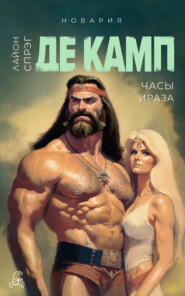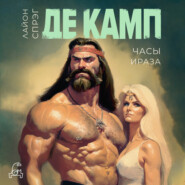По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лавкрафт: Живой Ктулху
Автор
Жанр
Год написания книги
1975
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он жил всего лишь через несколько домов от нашего и довольно часто бывал у наших сыновей. Помню, у нас была комната в подвале, оборудованная под клуб мальчиков, и с Говардом она была популярным местом. Так называемый клуб состоял примерно из полдюжины соседских мальчишек, возрастом около двадцати, и когда у них был, с позволения сказать, „банкет“, импровизированный и обычно приготовленный ими самими, Говард всегда был оратором вечера, и мои мальчики всегда говорили, что его речи были блестящими.
Время от времени мне выдавалась возможность поговорить с ним, и он всегда удивлял меня зрелостью и логикой своего языка. Один разговор я помню в особенности, я был тогда членом сената Род-Айленда, в 1911–1914 годах, и мы рассматривали несколько важных законов; Говард, оказавшись у нас однажды вечером, начал обсуждать некоторые из них, и я был поражен знаниями, которые он обнаружил относительно законов, которые обычно не представляют интереса для молодого парня двадцати лет»[116 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. X. Прайсу, 18 ноября 1932 г.; Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday 8c Co., Inc., 1961, pp. 56f.].
В 1916 году Честер Манро переехал на Юг, занялся гостиничным бизнесом и не возвращался в Провиденс много лет. Его брат Гарольд стал шерифом, а затем советником по условно-досрочному освобождению. Другие члены кружка отдалились от Лавкрафта, так что он редко их видел.
Но Лавкрафт не остался в полном одиночестве. Потому что на середине третьего десятка его здоровье улучшилось, и у него появились новые увлечения.
В начале третьего десятка Лавкрафт выглядел почти так же, как и на протяжении всей своей оставшейся жизни. Он был чуть ниже пяти футов и одиннадцати дюймов ростом[117 - То есть около ста восьмидесяти сантиметров. (Примеч. перев.)], с широкими, но сутулыми плечами и (за исключением нескольких лет в начале двадцатых годов) худым до костлявости, с шеей четырнадцатого размера, которая казалась слишком тонкой, чтобы держать его большую голову. У него были темные глаза и волосы (которые позже стали мышиного цвета) и вытянутое лицо с орлиным носом. Его заметной чертой был очень длинный подбородок – «фонарь» – под маленьким сжатым ртом, что придавало ему чопорный вид.
Лавкрафт коротко стригся, почти под «ежик», и зачесывал волосы на левый пробор. Он оправдывал такую прическу тем, что джентльмены восемнадцатого века именно так носили волосы под париками.
Врастающие волосы на лице донимали его всю жизнь. Единственным способом лечения от этого является отращивание бороды, но, как приверженец чисто выбритой эпохи барокко, Лавкрафт ненавидел растительность на лице и заявил следующее: «Я скорее додумаюсь носить кольцо в носу, чем отращу усы…» Позже, когда некоторые его молодые литературные протеже отрастили усы (или, еще хуже, козлиные бородки), он критиковал их в одном письме за другим, убеждая их сбрить отвратительную растительность.
Из-за ночного образа жизни его кожа была бледной. Кук рассказывал, что «он никогда не любил загорать, и даже немного цвета на щеках, казалось, вызывало у него досаду. Он был единственный из всех, кого я когда-либо встречал, кто стыдился загара». Возможно, это была часть его архаичной позы. До промышленной революции бледность считалась аристократической. Загар же, поскольку многие пролетарии трудились на открытом воздухе, был клеймом плебейского занятия. В любом случае, в конце жизни Лавкрафт покончил с эти капризом, обнаружив, как благотворно на него подействовало солнце Флориды.
У него были длинные тонкие бледные руки и маленькие ступни. Из-за пойкилотермии его руки были холоднее, чем ожидали люди. Обменяться с ним рукопожатием немного походило на пожатие руки трупу.
Его одежда была чистой и аккуратной, но ультраконсервативной по стилю. На третьем десятке Лавкрафт предпочитал вызывающе старомодный внешний вид: «старательная культивация преждевременного пожилого возраста и портновской антикварности проявлялась в тугой сорочке, круглых манжетах, черном пиджаке и жилете, брюках в серую полоску, стоячем воротнике, черном галстуке-ленточке и т. д. – с соответствующими строгими и сдержанными манерами»[118 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта В. Финлею, 24 октября 1936 г.; W. Paul Cook «In Memoriam: Howard Phillips Lovecraft (Recollections, Appreciations, Estimates)», самиздат, 1941, p. 9; «An Appreciation of H. P. Lovecraft» в Howard Phillips Lovecraft «Beyond the Wall of Sleep», Sauk City: Arkham House, 1943, p. 428; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. У. Дерлету, начало декабря 1927 г. У Лавкрафта был восьмой размер обуви.]. Он также надевал черный галстук-бабочку и высоко застегивающиеся башмаки и пользовался старомодным кошельком для мелочи. Он носил отцовскую элегантную одежду девятнадцатого века, пока она не износилась.
Даже когда Лавкрафт оставил эту манерность, он тем не менее оставался консервативным в одежде. Он предпочитал темные костюмы без рисунков и черные или темно-синие галстуки, простые либо в мелкий горошек, отвергая любой четкий узор или яркий цвет как «слишком юношеские».
Для Лавкрафта на третьем десятке было немыслимо появиться в обществе без пиджака или выйти на улицу без шляпы. К подобным вольностям он относился так же, как и персонаж из романа Маркуонда: «Как-то утром, когда Тим, кучер, подъехал с экипажем… мой отец, который не спустился в свою контору в обычный ранний час… вышел с нами на крыльцо. Тогда мне не было и семи, но я помню то восклицание, которое он издал, взглянув на крыльцо из бурого песчаника дома на противоположной стороне улицы.
– Тысяча чертей, – изрек отец, – на том крыльце человек без пиджака! – На следующий день он продал свой дом, который уже оплатил, и мы переехали на Бикон-стрит».
У Лавкрафта был высокий голос, с глухим носовым тембром, столь характерным для Новой Англии. При пении это был чистый благозвучный тенор. Около 1907 года он приобрел звукозаписывающую машину Эдисона, на которую записал свои сольные партии. Он даже подумывал о карьере певца, но запись «так напомнила мне вой подыхающего фокстерьера, что я по неосторожности уронил ее вскоре после того, как она была сделана».
Когда он говорил, особенно с выразительностью, его голос становился резким. Услышав записанный на фонограф собственный голос, Лавкрафт назвал его «хриплым визгом». Он легко улыбался, но редко смеялся, и его смех описывали как «грубое кудахтанье»[119 - John P. Marquand «The Late George Apley (A Novel in the Form of a Memoir)», Boston: Little, Brown 8c Co., 1936, p. 25; письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 15 мая 1918 г.; Э. X. Прайсу, 13 января 1935 г.; Wilfred В. Talman «The Normal Lovecraft», Saddle River, N. J.: Gerry de la Ree, 1973, p. 14.].
Волнуясь, Лавкрафт начинал заикаться. Его нормальное произношение было типично для культурного Род-Айленда, с рифмующимися «farce» и «grass»; «scarf», «laugh» и «half»; «aren’t», «aunt» и «can’t». В своей обычной речи, как и в письменной, он тяготел к педантичной многосложности – он был из тех, кто вместо «я собираюсь попить» сказал бы «я попытаюсь достать жидкости для подкрепления».
С незнакомцами он вел себя осторожно, натянуто и очень официально, но, когда узнавал людей достаточно, чтобы расслабиться при них, становился очаровательным собеседником. Его прославленная поза джентльмена восемнадцатого века воспринималась в шутливом и причудливом духе, отнюдь не серьезно.
В конце 1909 года корь, «черт, чуть не прикончила меня». С тех пор, за исключением психоневротической слабости, состояние его здоровья было довольно хорошим, особенно принимая во внимание его ночной образ жизни, неполноценную диету и отсутствие регулярных тренировок. Лавкрафт не любил осмотры у врачей и дантистов и посещал их лишь через большие промежутки времени. Он выглядел вполне нормально, и доктора не находили у него никаких четко выраженных нарушений.
Когда ему было тридцать, его коллега по любительской печати, бруклинский адвокат Джордж Джулиан Хоутейн, навестил его дома и вскоре после этого встретился с ним на съезде издателей-любителей. В итоге он поведал в своем журнале: «Лавкрафт искренне полагает, что он нездоров – что у него унаследованная нервозность и приобретенная утомляемость. В его крупной фигуре и хорошо сложенном теле никогда не заподозришь какой-либо недуг… Я пришел к заключению, что он желает превозмочь это и превозмог бы, но у него нет для этого возможности, потому как его домашние не дадут ему забыть об этой наследственной нервозности. И тогда Лавкрафт является психическим и физическим гигантом – не благодаря, а вопреки этим условиям».
В одном из писем Лавкрафт горестно отстаивает свою инвалидность: «Если вы получили „Зенит“ Дж. Дж. Хоутейна, вы увидите, какое впечатление я произвел на постороннего – крепкий, изнеженный ипохондрик, обленившийся из-за потакающих родственников и ложных представлений о наследственности. Если бы Хоутейн знал, как неизменны мои усилия против чудовищной головной боли, приступов головокружения и нарушения способности сосредотачиваться, которые давят на меня со всех сторон, и как лихорадочно я стараюсь использовать для работы каждый имеющийся миг, он был бы менее самонадеян в определении моих болезней как мнимых».
Термин «психосоматическое заболевание» еще не вошел в общее употребление, но Лавкрафт уловил идею. Много позже он писал: «Чем больше мы узнаем о психологии, тем меньше различий мы можем сделать между нарушениями, известными как „психические“ и „физические“. Нет ничего печальнее, чем невротичный темперамент, и я сам склонен к нему вполне достаточно, чтобы глубоко посочувствовать любому, кто страдает от приступов мрачной депрессии. В молодости я множество раз был столь измучен единственно лишь бременем сознания и психической и физической активности, что вынужден был бросать школу на больший или меньший период и брать полный отдых ото всех обязанностей…»
Личные пристрастия Лавкрафта в еде не способствовали его здоровью. К еде в целом он был безразличен, презирая гурманство и гордясь своей скудной диетой. Он полагал, что его мозг работает лучше, если он слегка голоден.
Вопреки стараниям матери откормить его, он следил за своим весом, стремясь сохранить его меньше ста пятидесяти фунтов[120 - Около семидесяти килограммов. (Примеч. перев.)]. Худоба, по его суждению, была аристократична. Когда увидел, что его друг Кук – маленький человечек, но хороший едок – набирает вес, он отнесся к этому крайне неодобрительно. На День благодарения 1911 года он не разрешил себя будить, чтобы пойти на празднование, на которое его с матерью пригласили Кларки. Взамен он написал Сюзи стишок:
Когда на праздник к Лили ты пойдешь,
Храпящим громко коль меня найдешь,
То не буди, хочу я полежать
И целый день во сладком сне проспать.
Голодным чтоб не умер без еды,
Пшеничных хлопьев рядом положи
Иль с завтрака печенье – не беда,
Коль пост оно нарушит после сна.
А если ужинать там будешь вдруг,
Веселый так чтоб завершить досуг,
По телефону извести меня —
Тогда я приготовлю для себя[121 - Howard Phillips Lovecraft «Department of Public Criticism» в «The United Amateur», XVI, 8 (May, 1917), p. 109; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 22 декабря 1932 г.; «The Zenith» (Jan. 1921), p. 5; письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 26 января 1921 г.; P. X. Барлоу, 10 апреля 1934 г.; С. Ф. Лавкрафт, 30 ноября 1911 г. (В стихотворении в оригинале игра слов: «breakfast biscuit» – «с завтрака печенье» и «to break my fast» – «пост оно нарушит». – Примеч. перев.)].
Лавкрафт не любил молоко и жир, ненавидел морепродукты и был требователен к овощам, не признавая фасоль и спаржу. Он обожал сыр («Как можно не любить сыр?» – писал он), мороженое, кофе с четырьмя-восемью ложками сахара на чашку и сладости. Один его гость как-то увидел, что его ванна полна пустых коробок из-под конфет. В 1927 году Лавкрафт со своими друзьями Дональдом Уондри и Джеймсом Мортоном зашел в кафе-мороженое миссис Джулии Э. Максфилд в Уоррене, штат Род-Айленд, реклама которого обещала тридцать два сорта мороженого.
– И все они в наличии? – спросил Лавкрафт.
– Нет, – ответил официант, – сегодня только двадцать восемь, сэр.
– Ах, упадок современных коммерческих институтов! – вздохнул Лавкрафт. Они заказывали по двойной порции разных сортов и менялись друг с другом частью своей порции, так что каждый пробовал три сорта за один заказ. Уондри вскоре сдался, но Мортон и Лавкрафт триумфально перепробовали все двадцать восемь сортов, поглотив более двух кварт[122 - Одна американская кварта чуть меньше литра. (Примеч. перев.)] мороженого каждый в один присест.
Лавкрафт испытывал неподдельный ужас перед морепродуктами. Любая попытка заставить его съесть их, утверждал он, немедленно вызвала бы у него рвоту. Раз кто-то исподтишка поставил перед ним салат, содержащий дары моря, – но он мгновенно отставил его в сторону, заключив по запаху, что в нем что-то испортилось.
Когда в 1933 году Лавкрафта навестил Эдгар Хоффманн Прайс, он отвез своего гостя в Потакет, чтобы тот смог насладиться знаменитым местным обедом из распаренных моллюсков. Лавкрафт сделал заказ для Прайса и заявил: «Пока вы будете есть эту треклятую дрянь, я перейду улицу и закажу сандвич, прошу извинить меня». Лавкрафт редко ругался. Он берег свои «проклятия» для торжественных случаев, вроде зрелища человека, поедающего эту «ужасную дрянь». И это отнюдь не совпадение, что чудовища из его поздних рассказов походят на комбинации различных обитателей аквариума, наделенных колоссальными размерами и злобным интеллектом.
Ненависть Лавкрафта к морепродуктам связана с приписываемым ему страхом и неприязнью к морю. В своих рассказах он часто использовал море наравне с холодом, сыростью и темнотой как символ зла. Однажды он сказал Дональду Уондри: «Я ненавижу рыбу и боюсь моря и всего связанного с ним с двухлетнего возраста»[123 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 30 октября 1931 г.; Donald Wandrei «The Dweller in Darkness: Lovecraft, 1927» в Howard Phillips Lovecraft «Marginalia», Sauk City: Arkham House, 1944, pp. 368, 364; Edgar Hoffmann Price «Howard Phillips Lovecraft» в «The Acolyte», II, 4 (No. 8, Fall, 1944), p. 19. Кафе миссис Джулии Э. Максфилд позже было продано и стало французским рестораном, затем был продан и он, теперь это ресторан дальневосточной кухни, отделанный в китайском стиле и предлагающий китайскую и полинезийскую еду.]. Подобное отвращение к какой-либо пище может появиться, если человеку стало очень плохо после того, как он ее поел, – независимо от того, была ли она причиной ухудшения состояния, или нет – и это может быть случаем Лавкрафта.
Что же касается моря, то это было лишь наигранностью. Большую часть жизни Лавкрафт провел в портовых городах, да и большинство его поездок были в морские порты, и он наслаждался путешествиями на пароходах в открытом море, пускай их было и немного.
Хотя после исчезновения Черномазого Лавкрафт больше не заводил животных, он любил кошек до безумия. Он утверждал: «У меня нет настоящей неприязни к собакам – не больше, чем к обезьянам, людям, торговцам, коровам, овцам или птеродактилям». Впрочем, другие его высказывания о собаках вроде «шумные, вонючие, лапающие, пачкающие, грязные» и «пыхтящие, хрипящие, скулящие, слюнявые» выражают настоящую неприязнь. Упоминание характеристик «лапающие» и «пачкающие» указывает на отвращение к физическим контактам с другими созданиями, которое Лавкрафт мог перенять от своей матери.
Он заводил дружбу со всеми соседскими кошками, где бы ни жил, и приучал их приходить к нему, приманивая мышками из кошачьей мяты, чтобы они с ними играли. Он чрезмерно восхвалял их красоту, изящество, независимость и другие предполагаемые аристократические черты: «Итак, собаки – крестьяне и животные крестьян, кошки же – джентльмены и животные джентльменов»[124 - «Cats and Dogs» в «Leaves» (Summer, 1937), перепечатано как «Something About Cats» в Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, p. 31–8; письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, декабрь 1926 г.]. Когда он приехал к Куку и на его коленях устроился спать котенок, он просидел всю ночь, чтобы не потревожить животное.
Другими отличительными чертами Говарда Филлипса Лавкрафта были невосприимчивость к ядовитому плющу и способность обходиться без сна на протяжении долгого времени. Когда он встречался с Прайсом в Новом Орлеане в 1932 году, они провели за разговорами, осмотром достопримечательностей и общением двадцать восемь часов кряду. К концу этого времени Прайс был рад завалиться в кровать. Когда же он проснулся восемь часов спустя, его взору предстал Лавкрафт, усердно писавший заметки о своей поездке: он так и не ложился.
Помимо психологических объяснений ночного образа жизни Лавкрафта – что ночь стимулирует воображение или что он серьезно относился к утверждениям матери о своей «омерзительности», – может быть и метаболический фактор. Гости отмечали, что Лавкрафт казался бледным и изнуренным днем, но заметно оживал при наступлении ночи. Большинство его произведений было написано ночью. Когда он работал в дневное время, то имитировал ночь, закрывая шторы и включая электрический свет. Старретт писал: «Он был своим самым фантастическим творением – Родериком Ашером или Ш. Огюстом Дюпеном, родившимся на век позже. Как и его герои в гигантском кошмаре По, он воображал себя трупной, загадочной фигурой ночи – мертвенно-бледным, ученым автором некрологов – и совершенствовал природное сходство с ней, пока она не стала почти реальной, хотя в общем и целом он был „книжным малым“».
Альфред Галпин, один из его давнишних друзей, вспоминал свои ранние впечатления о Лавкрафте так: «Насколько я могу судить, все, кто встречался с Лавкрафтом – независимо от того, каким странным он мог показаться им поначалу, – вдруг и искренне влюблялись в него. Определенно, он был одним из тех, чья нелюдимость – если и когда он был нелюдимым – была вызвана отчужденностью от людей, среди которых он оказывался по воле случая и с которыми у него не было ни малейшего чувства общности; но когда он чувствовал, что находится в родственной по духу компании, у него появлялись мальчишеские обаяние и воодушевление, которые совершенно затмевали его хорошо известные физические особенности: странная, наполовину мертвецкая, наполовину высокомерная вздернутость головы, отягощенной громадной челюстью, до некоторой степени рыбьи глаза, никак не согласующиеся с его оживленной и дружеской манерой, когда он начинал говорить – но каким странным высоким голосом!»
Крайне стеснительный, Лавкрафт упражнялся в приличествующей джентльмену сдержанности и невозмутимости, пока они не стали для него естественными. Рассердившись, он просто становился более холодно вежливым. Такой идеал полного эмоционального самоконтроля мог подогревать его неприязнь к выходцам из Средиземноморья с их более оживленной и общительной культурной традицией.
Он думал о себе как о неком бестелесном интеллекте, не отягощенном человеческими страстями: «Я никогда не буду очень веселым или очень грустным, ибо я более склонен анализировать, нежели чувствовать. То веселье, что есть у меня, всегда исходит из сатирического принципа, а грусть, что есть у меня, не столько личная, сколько безбрежная и ужасная меланхолия от боли и тщетности всей жизни…»[125 - Vincent Starrett «Books and Bipeds», N. Y.: Argus Books, 1947, p. 120; Alfred Galpin «Memories of a Friendship» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, pp. 194f; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 13 мая 1921 г.]
Позже он показал, что внутри старого Лавкрафта находится совершенно другой Лавкрафт, старающийся выбраться наружу: общительный, словоохотливый, очаровательный, сердечный и физически активный. Этот Лавкрафт все-таки смог появиться – но лишь частично и слишком поздно, чтобы полностью изменить его образ жизни. Тогда же он с грустью признался: «Я безмерно сожалею об отсутствии традиционной образованности – фехтования, искусства верховой езды, военной службы и т. д. и т. п., причиной чему было мое слабое с детства здоровье и недостаток понимания достоинства всестороннего образования».
В течение периода «под паром», говорил Лавкрафт, он был расточительным: «Вплоть до 1910–го или 1915 года вряд ли кто был столь необдуманно беспечен в расходах, как я, – даже несмотря на то, что крупный крах семейного состояния произошел еще в 1904–м. Моя мать говаривала, что для богача я совершенно разорен, а для бедняка крайне испорчен».
Хотя Сюзи и могла сказать такое, довольно трудно представить, на что Лавкрафт мог тратить много денег – несколько астрономических и химических приборов до 1912 года, а после книги да журналы. У него не было автомобиля, он не путешествовал и никогда не владел большим гардеробом. Обычные пороки обжорства, пьянства, азартных игр и блуда были не для него. С конца третьего десятка он, несомненно, вел строгую экономию, сохраняя все свои старые безопасные бритвы, чтобы перетачивать их на патентованной машинке для заточки[126 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. В. Ши, 4 октября 1931 г.; А. У. Дерлету, 16 января 1931 г.; Р. Ф. Сирайту, 4 ноября 1935 г.].
Продолжай Лавкрафт и дальше идти по дорожке, которую наметил за годы оцепенения, он жил бы как один из самых загадочных смертных и, возможно, умер бы, как и оба его родителя, в больнице для душевнобольных. Но вместо этого он в течение 1913–1917 годов постепенно пробудился и начал медленный, мучительный процесс воссоединения с человечеством.
За этот период Лавкрафт возобновил написание газетных астрономических статей. Он начал создавать круг корреспондентов, присоединился к движению любительской печати и обзавелся близкими друзьями, заменившими разъехавшихся товарищей детства. И он прочел некую книгу. Эта книга увела его в ненормальном псевдонаучном направлении, на исправление которого у него ушло двадцать лет и которое с тех пор предоставляет оружие против него его самым ожесточенным критикам.