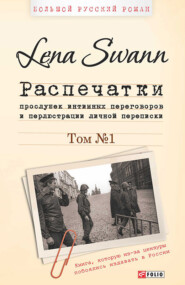По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Посмотрели – и на выход. Чернецов, куда направился? Моментально положь свечку где была! Тут у них – свое. А у нас сейчас экскурсия на фабрику, где свечи делают! На выход!
Елена на секунду обернулась и увидела, как Воздвиженский рыпнулся было к ней, сделал было шаг по направлению к ее скамье, но потом, услышав повторный, угрожающий гак Анны Павловны, запнулся, набучил губы и, покорно ссутулившись, пошел со всеми на улицу.
«Иди, иди, лапша, мамочка зовет тебя», – подумала Елена – и отвернулась к алтарю.
Узенькое игривое алтарное рококо поразительно шло к древним стенам.
А светлый и веселый, как ситчик на девичьем платье, потолок в цветочек, с домашней приветливостью соседствовал и с фресками одиннадцатого века, и с электронным алтарным табло с горящим номером сегодняшнего псалма: 51.
То есть, 50-м – в переводе для греков. А заодно, по наследству, и для русских. Которым, почему-то, в процессе исторической усушки-утруски, еврейских номерков недодали.
«А что если б футбольные игроки по полю с двойными номерами бегали? – представила себе Елена. – Мяч к воротам ведет Цымбаларь, Давид Ишаевич, нападающий, игрок на кимвалах и киноре, под номером 50 (51) – и, вот, наконец, мощный пас справа налево, то есть слева направо! Простите, мы опять сбились со счету!»
«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, – начала Елена тихо читать по памяти свой любимый псалом вместе со стоявшей в алтаре монахиней, казавшейся ей в этот момент синхронной переводчицей. – Ибо беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну».
И сразу почувствовала себя сидящей на своей любимой жаркой банкетке в церкви в Брюсовом – когда после вечерней службы тушили свет, и начетчица-мирянка, худенькая девушка в платке, слева, перед левым клиросом, рядом с иконой Взыскания Погибших пронзительно, при потрескивающих свечах, с особым монастырским запалом и наклоном слов читала утренние молитвы (авансом, впрок, с вечера), вместе с 50-м псалмом.
«Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя», – краем уха слушая немецкий текст, выговаривала вслед за монахиней на таком емком и живом церковнославянском Елена, явственно ощущая себя сразу в двух местах. И с особым трепетом повторила наполнявшую сердце радостью резонанса истины шпаргалку: «Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».
И, всеми чувствами (и внутренними и внешними) мигом обнаружив себя одновременно и в своей родной церкви – и здесь, в храме, в сердце богослужения – то есть – оказавшись вдруг наконец, в полном смысле, дома – Елена с ужасом, разом, почувствовала, как навалилось страшное осознание совершенного ею греха, разбившего ту сказочную, абсолютную, нежную защищенность от внешнего мира, то невыразимое словами ежесекундное богообщение, то удивительное нерукотворное свечение, в котором была замкнута, как в собственном райском за?мке, все время – с крещения – и до самой непостижимой, по идиотизму и никчемности, ее выходке с Воздвиженским в поезде.
Бороться за него? Отнять его у мира, уже давно его проглотившего с потрохами и калькуляторами, и только пускающего сытые слюньки? Увлечь его за собой? Заставить его увидеть другой, нездешний мир? Бред. Сражаться за его душу, уже давно высчитавшую ему на куркуляторе послушную, общую, обыденную плотскую смерть? За чью душу сражаться? Этого барашка, бегущего, едва заслышит чужой голос, в стадо – чуждое мне до омерзения? Бред. Бред. Всё это не что иное, как мой, мой личный грех, блуд, мой личный соблазн. И больше ни-че-го. Этот несчастный мальчишка не имеет к этому никакого отношения. Нечего даже и вдумываться в то, кто он, и почему появился в моей жизни. Статист, через которого соблазн действовал. Вляпалась-таки в жижу жизни. Боже, как хочется никогда отсюда не выходить. Остаться здесь, в монастырских стенах. Ни мизинцем не дотрагиваться больше до разрушительного внешнего потока, приносящего только боль и потери, угрожающего тому самому ценному, что у меня есть – чувствовать Бога, быть с моим Господом.
Храм был полон мирян. Священник благословлял на начавшийся за четыре дня до этого предпасхальный католический пост, и читал про паскудника-змея в Эдеме, и про то, как вместо обещанных ползучим вруном прелестей, Адам и Ева вдруг обнаружили себя голыми королями – лысыми зверями, бездомными, вечно несчастными, неприкаянными, пожинавшими волчцы и тернии – вместо чистоты, любви и счастья вечного творчества – горькие плоды поврежденного из-за них мира; и даже любить по-настоящему бывшие едва ли способны. А потом – страшные одиннадцать строк из Матфея о трех искушениях, предложенных Спасителю в пустыне – закончившиеся победоносным: «Тогда оставляет Его диавол; и се, Ангелы приступили и служили Ему».
Монахини гнездовались в самом начале правого крыла кресел. Но, несмотря на то, что Елену тянуло к ним, как магнитом, туда она пересесть не решились.
Неожиданно сзади нее звонкоголосые селянки запели тоненько и красиво: «Ты молись за нас, Мария!» и им подтянул весь храм.
Священнику прислуживали подростки-островитяне в белых облачениях – надетых прямо на верхнюю одежду – с капюшонами, красиво уложенными на спину, и с удобной застежкой-молнией спереди – снизу доверху. Причем, у одного парня из-под оперения торчал еще и теплый стеганый капюшон плюшевой куртки.
«Ангелы с молниями», – про себя, улыбнувшись, проговорила Елена, на миг пожалев, что не может прямо отсюда вести по телефону репортаж для Крутакова.
Ангелы встали на колени, самая младшая девочка оббежала друзей и раздала им колокольцы из ларчика – и, под медный звон, над алтарем в руках священника взошло белое солнце.
По сравнению с русской двухчасовой литургией, служба была сверхбыстрой – только самые неотложные молитвы.
Монахиня-настоятельница сотворила фокус в алтаре, крутанула потайной ящик алтархена, и достала из-за распятия еще одну чашу: и раздала облатки.
Из дюжины монахинь четыре остались сидеть, не подходя к причастию. Елена с грустью и сочувствием посмотрела на них, догадываясь, по своему опыту, каково это.
Сразу же после службы, когда черная вереница с белыми воротничками утекала в особую, южную дверь, она подбежала к понравившейся ей чем-то сестре (из тех, кто подошли к чаше) и остановила ее, поздоровалась, не зная, что сказать, и замялась – а та, почувствовав ее замешательство, и ничуть не удивившись, сразу, как-то по-родственному, сказала:
– Ну, пойдем… – И провела ее вместе с собой в закрытые для мирян монастырские сводчатые коридоры с потертыми портретами умерших аббатис, безостановочно рассказывая и рассказывая, как будто заговаривая ей зубы, мелодичным, упругим, гулко отскакивавшим, как мячик, ей же в руки, от стен голосом, и умудряясь иногда еще и гладить ее по голове, хотя ростом была раза в полтора меньше:
– Франциска. Я сестра Франциска.
– Как святой Франциск, который с голубями болтал!
– Да-да, ты права – точно! Хоть и не он мой святой – но я его считаю неофициальным покровителем. Елена тоже прекрасное имя – царское! Я была чуть старше тебя, когда я услышала зов. Нас было восьмеро у мамы. Я родом из Силезии – знаешь, где это? Это бывшая Польша, в смысле бывшая Германия, а до этого бывшая Польша – с ней запутаешься, с этой моей Силезией. Мама очень плакала, когда я решилась уйти. Я ей сказала: «Но у тебя же еще семь детей останется!» А она мне, плачет, и говорит: «Да неужели ты не понимаешь, что я каждого из вас люблю как единственного!» А я ей говорю: «Вот именно, мама. И Бог каждого из нас любит как единственного. Каждого по-разному, но каждого одинаково сильно».
Из прохладной, как у вечности под мышкой, полутемной галереи, они выморгнули в ослепительно солнечный, пахнущий нагретым сырым песком, внутренний дворик.
– С какого же вы года здесь?
– С 1945-го.
– Ничего себе… Сорок пять лет уже в монастыре?!
Красивое живое Францискино личико, углем резко вырисованные резвые брови, маслом писаные румяные скулы без единой морщинки, гладкие, как у младенца, веки, ни коим образом на шестьдесят пять лет, да и на пятьдесят пять не тянули, да и даже лет на сорок с трудом. Она вообще выглядела вне каких-либо обычных понятий о возрасте. Назвать ее молодой – в обычном человеческом понимании – было бы немыслимо только потому, что на ее лице абсолютно отсутствовали соответствующие штампу «молодость» традиционные, типованные – заимствованные, растиражированные вокруг миллионами копий – ужимки и гримасы – шрамы страстей. Время, которое на ее лице отражалось, точнее всего определялось как «выросший ребенок».
– А папаша… – продолжала сестра (с хитрой улыбкой, кажется, догадавшись, что Елена ошеломлена ее возрастом и всеми этими цифрами), – …вообще был простым мещанином, и ничего в вере не понимал. У него в мозгах все было по порядку: он считал, что женщина должна, без сомнения, выйти замуж, родить детей, да побольше, и воспитать их, так, чтобы дети получились ровно такими же, как родители, и как родители их родителей, а потом умереть. Нет, я конечно рада, уважала родителей, и все такое… Но я услышала зов, который был более мощным и властным, чем все то, чему меня до той секунды учили. А теперь скорей скажи мне, что с тобой случилось.
Когда через несколько минут рассказа Елены обе они одинаково, не глядя, хлопнулись задами на литую скамейку под кустом с набухшими бочонками почек, и Франциска, мягко поправляя ее грамматические ошибки, договаривая за нее концы фраз, одновременно, тем же музыкальным голосом, казалось, выправляла и расправляла заодно и ее эмоции и мысли, Елена вдруг удивилась тому, что все время до этого, как завороженная, не только не вытирала и не прятала, но даже и не замечала водопадов слез, катившиеся у нее из глаз, превративших джинсы уже местами из линяло голубых в ультрамариновые, и освобождавших ее от всех засевших в душе за последние дни заноз.
– Я не хочу уходить отсюда, – вдруг вырвалось у нее до последнего соленого кристалла искреннее признание. – Там снаружи всё больно. Почти всё. Болезненные, идиотские, тупые, бессмысленные, никому не нужные игры! Я не хочу в мир. Там всё ранит. Почти всегда. Там почти нет… никого… Я не могу так больше переплывать – от храма и до храма – а между этим везде боль, и дышать невозможно! И только какие-то внешние блестки жизни – кратковременная анестезия… – всхлипывала Елена, растирая сопли тыльной стороной ладони. – Я не своя там, совсем! Мне ничего этого не нужно, на самом-то деле!
– Слушай, тебе никто и не обещал послать тебя на курорт, – внезапно жестко возразила ей Франциска. – Тебя наоборот сразу честно предупредили: посылаю вас как агнцев среди волков.
– Франциска! Но там ведь можно выжить, только если никого и ничего вокруг не замечать и не чувствовать! Только ценой полной кастрации чувствительности! Франциска! То есть – убить себя, чтобы выжить! А если, наоборот, остаешься живой и всё чувствуешь – то тебя всё вокруг убивает! – отчаянно путая времена и спряжения, а, следом, и лица – начав случайно называть сестру на «ты», захлебывалась она. – Там всё, Франциска, понимаешь, всё, абсолютно всё, неправильно! Франциска! Всё шиворот-навыворот. Понимаешь?! А когда пытаешься кого-то изменить – сразу думаешь: да что это я, в самом деле?! Может, это всё – моя гордыня – менять кого-то?! Кто я? Там всё не мое… – тихо воя, выговаривала она уже своим кроссовкам, обильно поливая их соплями, скрестив руки на коленях и уронив голову. – Мне ничего этого не надо!
– Запомни: ты не всесильна – только Господь Бог может кого-то изменить, – тихо отозвалась Франциска. – И только если другой человек сам этого истошно, до смерти сильно, захочет! Не вини никогда себя ни за чужие грехи, ни за чужие ошибки. У каждого есть право своего собственного выбора… – Франциска впервые за весь разговор тяжело вздохнула. – Ты хотела бы жить как мы, в монастыре? Но одновременно ты чувствуешь, что есть что-то в мире, что можешь сделать только ты? Так? – рука сестры Франциски легко коснулась ее содрогающейся спины.
Ответа не было. Вместо этого раздались уже откровенные рыдания.
Франциска взяла ее руки в свои розовые кулачки и потрясла их, как в детской считалочке:
– Дары – у всех разные. Ты должна слушать себя. Внимательно. Никто за тебя выбор не сделает. Никого не слушай, кроме Бога. Очень внимательно за собой наблюдай. И всё услышишь. А ошибки все делают. Господь всё извиняет – лишь бы ты искала всем сердцем Господа. А то, что больно… Так боль – это плата, цена, за дар чувствовать. Ты же живая. Не бойся. И иди вперед. Ты же знаешь – не бывает ни одной такой секунды, когда бы Господь тебя не слышал. Вот и сейчас…
Из монастырского дворика, где они сидели, сизые Альпы выглядели совсем теплыми и ручными. А теперь еще и мокрыми. Франциска, заметив чуть распогодившийся взгляд гостьи, мгновенно тоже как будто улетела всеми чувствами на ту сторону озера, на какие-то одной ей знакомые горные тропинки:
– А я каждый отпуск туда, в горы хожу! Поднимаюсь на самый верх. Все перевалы знаю. Только отпуск маленький. Я работаю все время: машинопись преподаю. И стенографию.
– Другим монахиням?! – переспросила Елена, экстренно вытирая нос рукавом рубашки.
– Да нет, что ты! – расхохоталась Франциска, округлив губы и покосившись на соседнее здание. – Да нет! Детям, только детям, здесь, на острове, в школе. Знаешь, какая у меня печатная машинка волшебная! Я ее очень люблю. Знаешь нашу присказку? Orо et laborо! Я мемуары на ней пишу, когда свободное время есть. Может, когда-нибудь что-нибудь из своих записок издам.
Елену страшно подмывало выведать подробности, но язык не повернулся.
А Франциска тем временем, с самым что ни на есть хулиганским видом закинула ногу на ногу и, вдвинувшись поглубже, поудобнее на лавочку, и потирая пальцами виски, чуть сбивая при этом головной убор назад, и, сделав вид, как будто меняет тему, невесомо добавила:
– А знаешь, между прочим, какие здесь жесткие правила были в монастыре первые пятнадцать лет, после того как я сюда поступила! Нам вообще никуда не позволяли выходить за территорию – ни ногой! А гулять разрешали только вот здесь вот, во внутреннем дворике! Пока Консилиум не решил иначе.
– Кошмар! – не удержалась Елена. – Кто же имеет право вас ограничивать?! Кто же имеет право запрещать вам ходит в горы и любоваться сотворенной Богом красотой?! Вы же сами сказали: надо слушаться только Бога и себя!
Франциска хитренько улыбнулась, по-пацански засунула руки в карманы туники и оттопырила их:
– Ну, вот видишь! – и ее красивые брови выгнулись двумя крутыми мостиками, рифмуя очень шедший к ним черный шаперон. – Тебе это не по вкусу. Здесь – защита. Но это не рай. Ты же это прекрасно понимаешь. Сражение везде – и здесь, внутри – и там, снаружи. И так будет всегда, пока не…