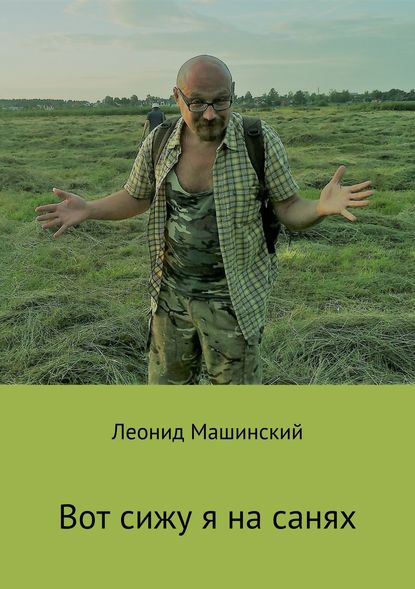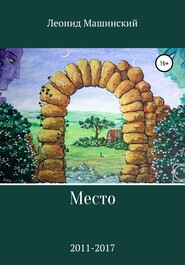По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вот сижу я на санях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но бывали, конечно, и моменты маеты, связанные с этим нашим сонным похоронным путём. В том самом узком месте, дожидаясь своей очереди, мы простаивали часами не раз и не два – это вообще во времена моего детства было чуть ли ни нормой. Далеко не всегда мне удавалось найти себе приятелей для игры, иногда не было поблизости даже старших ребят, которые в игре заведомо обидят. То ли в обозе совсем больше не было детей, то ли они сидели на санях в дальних концах. Туда меня отец не пускал – вдруг поезд тронется – всегда ведь ждёшь, что он тронется в следующую минуту. Я сидел на санях и скучал. Я предавался меланхолии и воображал, что это я умер и меня везут на санях в так называемый последний путь. Иногда так входил в роль, что сам себя ловил на том, что подражаю и положением тела и выражением лица какой-нибудь очередной умершей бабушке, нашей дальней родственнице. На мгновение мне становилось страшно – а вдруг это я в самом деле умер? Но как же я сам себя хороню? А вдруг покойник видит, как его хоронят? А вдруг душа – я ведь слышал об этом – отделяется от тела и летает над ним и видит его сверху? Но я ведь вижу себя не сверху. И потом, я не в гробу. На всякий случай я, не открывая глаз и не размыкая мёрзнущих рук, шевелил ногами и убеждался, что по сторонам нет гробовых стенок. Какое-то время я специально лежал, раскинув ноги, но так было холоднее. Особенно неприятно было думать об обледенелой могиле и о том, что тебя закидают промёрзшей землёй пополам со снегом. Вот уж где наверное действительно холодно!
Я просыпался от неприятной дрожи. Умирать не хотелось. Хочется ли кому-нибудь умирать? Почему люди умирают так часто? Почему они вообще умирают?
Этот вопрос до сей поры приводит меня в недоумение, хотя я и научился – выдрессировал сам себя – относиться к смерти гораздо спокойнее. Ведь так положено взрослому человеку – не правда ли?
Облегчение наступает, когда впереди стоящие сани наконец сдвигаются с места. Лошади могут сделать это только рывком – полозья примерзают. Они бедные так напрягаются, что жалко на них смотреть, и ещё кажется, что порвётся сбруя. Иногда полозья приходится откапывать и подковыривать ломами. Однажды при мне таким образом полоз неосторожно сломали, и сани пришлось общими усилиями затаскивать на крутую обочину, чтобы освободить дорогу остальным.
Но тогда, по весне, в своём новом гробу, я летел домой как на птице. К тому же, я ехал с кладбища, а не на кладбище. Изготовляя каждый новый гроб не для себя, я словно заново рождался – словно поворачивал время назад и возвращался с кладбища домой, хоть и в гробу, но живой и невредимый. Сердце заходилось, когда после очередного подъёма, сани стремительно скатывались в ложбину между холмов. Тут даже моя кляча позволяла себе скоростные вольности.
Однажды, вернувшись вот так в посёлок в самом весёлом расположении духа, я узнал, что мой единственный друг умер; а я был последнее время так занят собой, что даже ни разу не соизволил навестить его в больнице. Что теперь я могу сделать для него? Пожалуй, я уже сделал – этот гроб. Думаю, отец не станет возражать, если я предоставлю его семье умершего бесплатно. У него, насколько я знаю, одна мать и ещё сестрёнка, живут они бедно, беднее нас. Отец мой, кажется, любил этого моего дружка. Но почему же я не сходил к нему в больницу? Не хотел смотреть, как он умирает? Совесть ворочалась у меня внутри огромным раненным спрутом, одно из её щупалец щекотало мне горло, и я подавился, чтобы не разрыдаться. Будет ли у меня в жизни ещё хоть один такой друг? Нежный, отзывчивый. Почему я его так мало хвалил при жизни? Даже подшучивал над ним – какая свинья!
Я уже сделал гроб. Разве что отлакировать его? Или, может, вырезать на нём какой-нибудь узор? Может, крест? Надо спросить родственников? Но до того ли им? Где, кстати, его отец? Я даже не знаю, никогда не спрашивал. В сущности, мне было на моего друга наплевать. Он просто был, и слава Богу. А вот теперь его нет. Может, его отец умер? Или он, как мой дядя, ушёл из семьи? Тогда его можно найти, позвать хотя бы на похороны?.. Но много ли в этом теперь прока?
Так я думал тогда. И сделал, конечно, всё, что считал нужным, всё, что мог, всё, что от меня зависело. Я не мог этого не сделать. Не делать это – было бы слишком мучительно, невыносимо. В делах – как я понимаю теперь, почти сплошь ненужных – растворилась моя печаль. Растворение печали – в этом был единственный смысл моих хлопот. Чем пышнее похороны – тем больше забот, тем сильнее внимание отвлекается собственно от факта смерти. А сам факт? Может, его нужно просто понять? Можно ли его понять?
Где-то, наверно уже на моём сотом гробу, скончался мой старший брат. С ним вышла банальная история – увлёкся наркотиками. Строительство дач и в самом деле приносило неплохие барыши, а кроме этого строительства как-то ничего у него в жизни не было, даже нас не было, т.е. семьи. От матери и отца он сам ушёл, я на него за это сердился, а может надо было, наоборот, пожалеть? В общем, все мы виноваты. А наркотики эти – не знаю, как они попадают в наше селенье. Скорее всего, виноваты подозрительные личности с юга. Пробуют их от скуки те, у кого есть деньги. Никогда бы не подумал, что брат мой такой легкомысленный – он всегда производил на меня впечатление самого серьёзного и целеустремлённого человека в нашей семье – этим превосходил даже мать и отца. И вот… Как всё это происходило – я толком не знаю. Но он всё реже появлялся дома, почти уже совсем не появлялся. Перестал приносить деньги – мать это заметила. А ещё мать заметила, что он похудел и разговаривает как-то странно. А однажды сам попросил у неё денег, она дала скрепя сердце, он ушёл радостный и больше не вернулся. Его нашли на Поганом Пустыре – так у нас в посёлке называют это место. Трудно сказать, от чего он собственно умер – то ли наркотик оказался какой-то некачественный, то ли замёрз – хотя было не так уж холодно. А может, помог ему кое-кто уйти из жизни – были и такие предположения. Этот Поганый Пустырь неподалёку от церкви – как раз то место, на которое намекала в своей страшной сказке бабушка. Там и отделение милиции поблизости, но брат мой туда не попал, умер прямо на Пустыре – это, на самом деле, свалка, хоть вокруг и поставлены плакаты, что сброс мусора запрещается. Там, в землянках, ночуют бомжи и раздобывают свои дозы пропащие наркоманы; те, кому особенно некуда идти, тут же и колются.
Я никогда не понимал этих людей. Мне не хотелось даже в мечтах попробовать, что это за кайф. Не то чтобы я так уж боялся, просто мне было заранее не интересно. И вдруг – мой брат!
Я теперь уже никогда не пойму что к чему. Я и раньше-то с ним почти не говорил, а за последние несколько лет мы буквально не сказали друг другу ни одного слова.
Его смерть для меня загадка. Любил ли он кого-нибудь? Была ли у него девушка? Он ведь был симпатичный парень. Может, он из-за любви?
Очень сокрушался отец. Да и мать была сама не своя, но она всё поняла раньше, когда давала ему деньги. А мы с отцом делали вид, что всё идёт обычным порядком, что ничего страшного не происходит – у него своя жизнь, у нас своя – он сам свою жизнь выбрал, имеет право, и вот…
Ну хватит причитать. В общем, схоронили мы брата. На этот раз – в отцовом гробу. Я его мёртвого, честно говоря, не узнал, настолько он изменился. Наверно и при жизни был уже похож на трупа. Он, кажется, всё последнее время только и делал, что стремился к этому законченному состоянию. Когда мы забирали с отцом из морга его обнажённое тело, я старался не смотреть на многочисленные следы уколов. Теперь мне кажется, что был неправ – что толку прятать голову в песок?
Мы схоронили брата, я хотел пойти в церковь и поставить за него свечку, но близость к церкви Поганого Пустыря остановила меня. С той стороны как будто так и тянуло разложением. Это была не иллюзия – просто на свалку выбрасывали пищевые отходы и, скажем, трупы домашних животных.
После смерти брата я решил уехать из нашего города. Отцово ремесло я вполне усвоил и был уверен, что уже нигде не пропаду. Впрочем, обещал родителям заезжать в гости. Сестрёнки мои уже здорово подросли, похорошели и, того гляди, готовы были выскочить замуж. Мне хотелось верить, что судьба брата заставит их поостеречься и не совершать некоторых опрометчивых поступков. Как бы там ни было, я оставлял их на произвол судьбы. Они поплакали, провожая меня, – как всегда, не совсем искренне – так они плакали и по брату. Теперь мать и отец принадлежали им безраздельно – они всегда этого хотели.
Кстати, я забыл сказать, что к этому времени умер и мой дядя. Как подозревали, покончил жизнь самоубийством. Его нашли зимним утром под окнами пятиэтажки, где он проживал на пятом этаже. Смерть наступила от перелома шейного позвонка. Никаких писем он, впрочем, не оставил, так что версия самоубийства остаётся под сомнением. Дядя в последний год сильно попивал, но эксперт сказал, что у трупа в крови не было алкоголя. Впрочем, как я потом узнал, это почти невозможно определить, и уж совсем вряд ли соответствующие средства были в нашем морге. Не знаю, зачем он врал.
Дядю мы похоронили в моём гробу всего-то месяца за два до того, как похоронили брата. Отец теперь поневоле вновь прибился к матери, к дому; но у него могли возникнуть проблемы с транспортировкой продукции, а я оставлял его в трудный час.
Я боялся, что сам здесь умру. Как-то стало мне от этой жизни тошно. Захотелось, так сказать, попробовать на вкус другие возможности. В общем, я поступал как последний трус и эгоист.
К тому времени жизнь, как и смерть, в нашем городке стала как-то замирать. Всё реже случались массовые одновременные заморы, но реже стали происходить и рождения. Молодёжь разъезжалась по другим местам, а из тех кто оставался, многие уходили в наркотики. Умер старый мэр, и ЗАГС перестал регистрировать круглосуточно. Перестала работать круглосуточно и материна прачечная, она чуть не осталась без работы. Поговаривали даже, что и кладбище с родильным домом собираются перевести на исключительно дневной режим; многие роженицы стали опасаться рожать – вдруг ночью? Хоть покойников и стало не в пример меньше – очереди у кладбищенских ворот выстраивались с самого раннего утра. К тому же, на лошадей напала сибирская язва, чего не случалось уже более ста лет, и бо'льшая часть их вымерла – пришлось делать для заражённых трупов новое запретное кладбище на отшибе. С транспортировкой как покойников, так и живых людей, таким образом, возникли большие трудности. В окрестных лесах – несмотря на довольно сырую погоду – по неизвестной причине полыхали обширные пожары. В будущем грозила нехватка пиломатериалов. Отец мой грустил и, одиноко сидя на кухне, прикладывался к бутылочке. Мать сильно похудела, у неё как-то потухли глаза; при переходе на дневную работу она потеряла в зарплате. Девчонки чуть ни каждый день бегали на дискотеку, но приходили оттуда какие-то невесёлые. На всё это неприятно было смотреть – я всё более убеждался, что уже не смогу здесь никому толком помочь. Я уехал.
Долго жил в большом городе, женился, народил детей, мальчика и девочку. Стал большим начальником, хозяином престижного похоронного бюро. Я всё реже и реже писал письма домой, хоть и знал, что мать болеет, а отец почти перестал работать и пьёт горькую. Сёстры мои повыходили замуж и тоже покинули родителей.
Может быть, из-за того, что меня мучила совесть, мне всё чаще стали сниться сны о родном городке. Мы сидим все дома в нашей двухкомнатной квартире, на четвёртом этаже в пятиэтажке. Даже старший брат дома. Даже дядя, у которого есть другой свой дом. Нам всем очень хорошо. Мы сидим все за одним столом. Я снова ребёнок и вместе с другими детьми наслаждаюсь яблочным пирогом. Потом бабушка отправляет нас гулять – смотрит, чтобы мы все были тепло одеты – сама поправляет нам шарфы и шапки; отец, мать и даже дядя смотрят одобрительно. Первым из дома выходит старший брат, за ним я, потом девчонки – по старшинству.
Бабушка остаётся дома и вяжет какой-то длинный, бесконечно длинный, чулок. В руке у неё клубок серо-зелёных ниток, клубок величиной с апельсин. Часы тикают очень медленно. Секунды как будто увязают в липком неподвижном воздухе. Звуки никак не могут долететь до стен, до пола, до потолка. Так же медленно, с запозданием, долетает сквозь замороженные стёкла детский гам со двора.
Мы играем во дворе, т.е. в пространстве между нашей длинной пятиэтажкой и другой такой же, стоящей напротив параллельно. Наша квартира расположена так, что есть окна, выходящие на обе стороны. Так вот, в окно, выходящее на двор, бабушка видит сгущающиеся сумерки, она поправляет на носу круглые очки и закалывает гребёнкой потуже пучок седоватых волос. Она видит нас – мы передвигаемся, как в кино в замедленной съёмке. Мы играем в снежки, лепим баб – нам очень хорошо. Уже зажглись во дворе первые фонари. Падают крупные пушистые снежинки.
А с другой стороны от дома – сумерками ещё не пахнет – быть может, это от того, что там запад и небо дольше остаётся светлым после захода солнца?
Но вот мы уже вернулись домой, довольные и немного усталые, опять очень голодные. Бабушка будет кормить нас, а потом почитает нам книжку, и старший брат с нами. Мама с папой сидят на кухне за столом, как шерочка с машерочкой, папа держит мамину руку в своей. Дядя уже тихо ушёл.
За окном кухни ещё совсем светло, разве что, только-только начало смеркаться – там, насколько может различить глаз, огромное, плоское, чистое снежное поле и серо-голубое безоблачное небо над ним – разве что, чуть-чуть, незаметно начинает наползать тьма. А со стороны детской комнаты – уже ночь, в пору и спать ложиться. Мы, кажется, уже и раскладываемся по кроваткам. Как это мы там вчетвером умещались? Может, брат и ушёл, потому что ему это надоело? Но сейчас нам так уютно. Бабушка читает нам сказку про Нильса с дикими гусями, а вовсе не про дядек, которые обсасывают ляжки.
С одной стороны – тьма, с другой стороны – не то рассвет, не то сумерки. Время длится всё медленнее, точно пробуксовывает и в конце концов совершенно останавливается. Только едва различимый смех доносится от окна – не мы ли там играем? – или это уже снится?
Мать с отцом всё ещё сидят на кухне, всё в той же позе, ничего не говорят, только смотрят друг на друга влюблёнными блестящими глазами. Бабушка закончила главу и задремала. Часы хотели тикнуть, но задумались и встали…
В конце концов, я не выдержал и поехал на родину. Жена моя была очень недовольна, что я уезжаю вот так, с бухты-барахты, зимой. Приближался Новый Год. Я обещал скоро вернуться, но про себя думал: очень может быть, им придётся встретить этот Новый Год без меня.
Единственное, чего я по-настоящему хотел – прокатиться в гробу на санях.
(Белогорье, редакция 2017-го года)