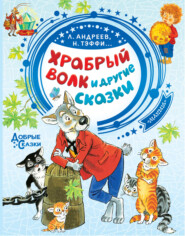По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собачий вальс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молчание.
Феклуша. Что это, Генрих Эдуардович, у вас такой вид исхудалый, вы не больны ли? К доктору бы сходили.
Тиле. Нет, я здоров. Вероятно, устал сегодня на собрании, много говорить пришлось о делах. О делах, Феклуша. Спорил с глупцами и устал. Ты надолго ко мне?
Феклуша. Нет, на минутку, я сейчас.
Молчание.
Тиле. Жаль, что камина у меня нет. Все обдумал, а камин позабыл… правда, квартира с отоплением. Ну?!
Феклуша. Генрих Эдуардович!.. В ваших планах произошла перемена. Хоть вы поклянитесь мне…
Тиле. Да? Постой: откуда здесь пахнет духами? Да, пахнет. Уж не стал ли ты душиться, Александров?
Феклуша. Вы уж выдумаете! Никаких духов я не слышу.
Тиле. Нет, пахнет. Впрочем, это не важно. Что же ты Желаешь сказать мне? – говори.
Феклуша. Я уже сказал. В ваших планах произошла перемена – скажите правду, Генрих Эдуардович, на колени перед вами стану, пять лет в церкви уж не был, а теперь в церковь пойду, молиться за вас буду. Скажите правду!
Тиле. Очень ты любишь становиться на колени, Александров. Какую правду? Я сегодня устал.
Феклуша. Ну… голубчик, ну, миленький! Товарищами ведь были, вспомните, как маленькие были, как в Петершуле учились… Скажите! Отпустите мою душу, не могу я больше! (Плачет.)
Тиле. Ты тоже плачешь? Странно. Сегодня я почему-то вижу очень много слез. Сегодня я был на вокзале…
Феклуша (вздыхая после плача и вытирая глаза грязным платком). Зачем на вокзале?
Тиле. Поезда смотрел… нет, письмо отправлял. И вот я увидел старую женщину в платке, которая шла по перрону, и была совсем одна, и плакала при всех. Странно… (Задумывается.)
Феклуша. На улице редко кто плачет: разве только пьян или родственника хоронит. – Генрих Эдуардович, внемлите, а то… опять заплачу!
Тиле. Да? Не надо. Нет, в моем плане существенной перемены не произошло. И уже с завтрашнего дня для тебя наступает спокойствие: завтра я уезжаю.
Феклуша (краснея). Завтра? По какой карте?
Тиле. Тсс!.. Сейчас мне трудно говорить с тобой, Феклуша, старый товарищ, но завтра ты еще зайдешь ко мне и все узнаешь. (Усмехаясь.) Но только не вздумай гнаться за мной – не догонишь!
Феклуша. Ну, что это вы!..
Тиле. Да, да, ты хитрый зверек!
Феклуша. Дураку и хитрость не помогает, только себя и обманешь. Пораньше утром зайти, до службы?
Тиле. Можно и пораньше. Теперь же иди домой и спи спокойно, Феклуша, старый товарищ. Дети твои здоровы?
Феклуша. Что им делается, здоровы, должно быть. Отчего вы коньяк бросили пить, Генрих Эдуардович, у вас даже лицо потемнело?
Тиле. Не хочется. Иди.
Феклуша. Сегодня ровно месяц, как мы последний раз пили коньячок… Помните, как вы называли коньячок? Ну, пойду, не буду вам мешать. (Тихо.) А деньги спрятаны?
Тиле. Тсс! Молчи. Спокойной ночи, Феклуша, иди. Ты в калошах: идет сильный дождь. Прощай, до завтра.
Феклуша. А если до завтра, так, значит, не прощай, а до свиданья. До свиданья, Генрих Эдуардович. Спокойной ночи… и уж скажу вам: хорошо вы делаете, что эту квартиру бросаете! Тогда я молчал, а теперь можно сказать: бросайте вы ее поскорее! Если в ней одному час пробыть, так с ума сойдешь, ей-Богу!
Тиле. Да, я бросаю. Прощай.
Феклуша. Прощайте. – Можно мне еще сказать? Всех людей я понимаю и могу с лица угадывать, кто к чему склонен, а вот смотрю я на вас… строги вы очень! (Тише.) И не знай бы я ваших мыслей…
Тиле. Тсс!..
Феклуша (с внезапной яростью). Нечего цыкать, мы люди свои! Эка! Я и сам так цыкну!..
Молчание.
Извините, Генрих Эдуардович! (Идет.)
Тиле. Дверь запирается сама.
Феклуша. Я знаю, Генрих Эдуардович. (Идет, Тиле смотрит ему вежд, вдруг останавливает.)
Тиле. Постой. Идет сильный дождь, вот тебе на извозчика. Бери же.
Феклуша. Спасибо… Ну, и зачем так много? Мне совестно, ей-Богу!
Тиле. Нечего, нечего, иди.
У двери Феклуша останавливается и смотрит на свою ладонь.
Феклуша. Генрих Эдуардович!.. Смотрю я себе на руку и думаю: дали вы мне двадцать пять рублей – а отчего я не радуюсь? Конечно, деньги уж не такие большие, а все-таки, будь это прежде, я бы колесом ходил. А сейчас смотрю и… или это после слез так кажется? Будто за мои слезы и побольше бы следовало? Или так по расчету выходит? (Не поднимая глаз.) Извините.
Выходит. Слышно, как стукает дверь, закрываясь. Тиле один. Смотрит на часы.
Тиле. Уже одиннадцать. Надо снять воротничок. (Снимает воротничок, манжеты, сюртук; все аккуратно складывает на кресло. Ходит по комнате, тяжело и медленно, как налитый чугуном. Пытается протереть стекло, за которым неслышный городской дождь.) Так. Сейчас одиннадцать, а солнце всходит почти в семь – сколько же еще часов будет темнота? Много – не надо цифр, Генрих, Генрих Тиле – просто скажи: много! Много часов, много темноты. Я никогда не думал о, том, что делают люди, когда кончают с жизнью и убивают себя, и теперь мне странно, я не умею себя вести. Может быть, надо сидеть за столом, а я хожу? Надо сделать. (Садится, но сейчас же встает и снова ходит.) Нет! Пустяки! Самоубийцы просто не думают о том, надо ли им ходить или сидеть. Вероятно, ходят. Но откуда здесь так пахнет духами – сладкие, странные, печальные духи. Так душатся женщины, которые молоды и хотят любви. Но сердце у них печально… Печальные духи! Печальные женщины, печальная Елизавета – теперь я ее не помню, а когда-то я ее любил, что-то было такое – была печаль. Боже мой! Зачем я говорю: Боже мой? – Боже мой! Я ничего не знаю, я ничего не понимаю, я никого не люблю. Убийца? – Вор, укравший миллион? – Генрих Тиле, любивший точность? – не знаю. Было все – и не было ничего. Зачем я бил по столу кулаком, зачем я кричал? Зачем Генрих Тиле писал цифры, столбцы чисел, бесконечный караван в бесконечной пустыне? Было все, и не было ничего. Был странный человек, который метался, кричал, надевал рыжий парик, как клоун, глотал огонь. И был другой странный человек, который ходил в банк, выгонял чиновников, имел строгий вид и назывался – Генрих Тиле. Что за чепуха – Генрих Тиле! И кто будет лежать в гробу: Генрих Тиле или тот? А где буду я? Вот я уже подумал про гроб, белый с кистями. Мне страшно. Неужели все кончено? Мне страшно! Неужели действительно пришло это? Жил, жил и вдруг – это. Это! Какой ужас! Нет, какой ужас!
Это.
Нет! Нет! Мне не страшно – о черт! Мне не страшно, – о, берегись обмана, берегись обмана, берегись обмана. Итак, гроб, белый с кистями, а в нем кто-то. Да, конечно: это страшно Генриху Тиле с его цифрами, это страшно тому другому, который хотел украсть, кого-то убивал, кого-то насиловал и надевал рыжий глупый парик злодея. Но где же я? – Боже мой, великая мудрость и любовь, ответьте мне: где же был я с моей великой, печальной и одинокой душою? Меня нет. Нет никого. Нет ничего. Один ужас – и это.
Это.
Генрих, Генрих, милый мой, держи себя крепко. Ты умел бить кулаком по столу, теперь держи себя крепко. Так. Хорошо! Так.
Мне холодно. Нет, не мне, а здесь холодно. Зачем я снял сюртук, надо надеть. Такие манжеты носил Генрих Тиле. (Забывает надеть сюртук.) Но это невыносимо, это пустые комнаты так ужасно действуют на меня – как будто там убийца. В каждой комнате спрятался убийца и ждет. Хорошо бы там зажечь свет, но я боюсь туда войти. А здесь можно, о, здесь можно. (Зажигает новые лампочки. Светло.) Теперь светло: но какая странная чужая комната. И теперь еще больше нет никого – так говорится: еще больше нет никого? И опять пахнет духами – кто здесь пахнет духами? Это убийцы пахнут здесь духами? Чтобы черт взял того, кто это выдумал! Надо идти в спальню. (Открывает ящик стола, вынимает револьвер и деловито рассматривает его; кладет на стол. Про себя:) Стреляться надо там, где спишь. И с головой закрыться одеялом, как будто спать, тогда не заметишь. Так. Надо что-то еще… что? Я все забыл. Что? Ах да, надо написать записку… Где бумага, бумага, чернила, чернила? Нет. Не надо записки. Это пустяки. Все было – и не было ничего и это.
Это.