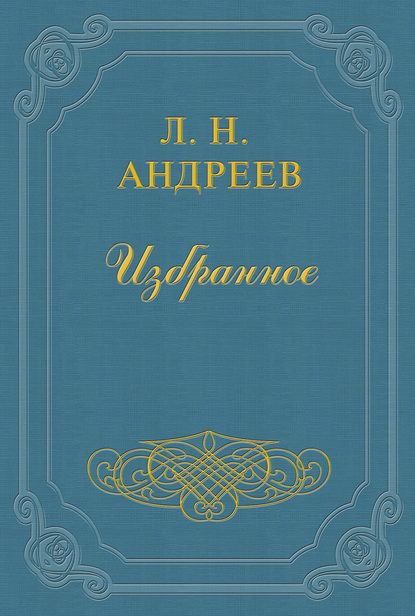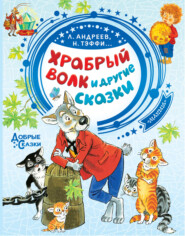По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мои записки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Допуская всю эту галиматью – я умышленно упустил из виду надзор. А надзор неусыпен. День и ночь я слышу за дверьми шаги тюремщика, день и ночь в маленькое окошечко на двери за мною следит чей-то глаз, контролируя мои движения, читая на лице моем мои мысли, мои намерения, наконец, мои сны. Днем я могу усыпить его внимание ложью, придав лицу выражение веселое и беззаботное, но я еще не встретил почти человека, который мог бы лгать и во сне. Как бы ни охранял я себя днем, ночью я выдам себя невольным стоном, судорогой в лице, выражением усталости и тоски и другими проявлениями совести нечистой и беспокойной[21 - Лишь очень немногие люди, с чрезвычайно сильной волей, умеют лгать и во сне, искусно управляя мышцами лица, даже нередко сохраняя приветливую и ясную улыбку на устах в то время, как душа их, отданная во власть сновидениям, трепещет ужасами чудовищного кошмара, – но как исключения они не могут приниматься в соображение.]. И для меня является огромным счастьем то, что я не преступник, что совесть моя спокойна и чиста: читай, мой друг, читай, – говорю я неусыпному глазу, спокойно укладываясь спать, – ты ничего не прочтешь на моем лице!
Но в одном случае тот, кто наблюдает за мной, стал невольным поверенным моим: читатель догадывается, конечно, что речь идет о моей любви к г-же NN. Должен, однако, отдать справедливость той крайней и благородной деликатности, с какою наблюдающий за мною удаляется от окна, заметив мое характерно возбужденное состояние и некоторые приготовления. Очень возможно, впрочем, что это делается по распоряжению г. начальника, из естественного чувства благодарности, так как окошечко в двери – мое изобретение. Да, это я изобрел окошечко в двери.
Я чувствую, что мой читатель удивлен и недоверчиво улыбается, мысленно обзывая меня старым фанфароном и лгуном, – но есть случаи, где скромность излишня и даже вредна. Да, это простое и в своей простоте гениальное изобретение принадлежит мне, так же, как Ньютону – его бином, Кеплеру – его законы вращения светил.
Впоследствии, поощренный успехом моего изобретения, я открыл и ввел в обиход тюрьмы целый ряд маленьких усовершенствований, но они касались деталей: формы замков и т. п., и, как все другие маленькие изобретения, влились в общее русло жизни, увеличив ее правильность и красоту, но не сохранив за собою имени автора[22 - Между прочим, по моему совету была изменена форма кандалов в нашей тюрьме: вместо прежних колец я ввел двойное полуовальное кольцо, представляющее собою в чистом виде тот знак, который в математике символизирует бесконечность; впрочем, это изобретение относится скорее к области философского, так сказать, щегольства, так как практически прежние неумные кольца с успехом выполняли свое назначение.]. Окошечко же в двери – мое, и всякого, кто осмелится отрицать это, я назову лжецом и негодяем.
Пришел я к моему изобретению при следующих обстоятельствах: однажды во время поверки некий арестант железной ножкой от кровати убил вошедшего к нему надзирателя. Конечно, негодяя повесили на дворе нашей же тюрьмы, и администрация легкомысленно успокоилась, но я был в отчаянии: великая целесообразность тюрьмы оказывалась мнимой, раз возможны такие вопиющие факты. Как можно было не заметить, что арестант отломал ножку от своей кровати? Как можно было не заметить, наконец, того несомненно возбужденного состояния, в каком он должен был находиться перед совершением убийства и каковое его внимательному наблюдателю, если бы таковой существовал, дало бы возможность предотвратить происшедшее?
Поставив вопрос столь точно и прямо, я уже тем самым значительно приблизился к решению загадки; и действительно, по прошествии двух или трех недель я совершенно просто и даже как будто неожиданно пришел к моему великому изобретению. Сознаюсь откровенно, что до сообщения моего изобретения г. начальнику тюрьмы я пережил минуты некоторого колебания, весьма естественного в моем положении узника. Читателю, который все же удивится этому колебанию, зная меня за человека с чистой и незапятнанной совестью, я отвечу цитатой из моего «Дневника заключенного», относящейся к тому времени (1 сент. 18…):
«Как затруднительно положение человека, осужденного безвинно, подобно мне. Если он печален, если уста его скованы молчанием и глаза опущены долу, про него говорят: он раскаивается, он мучится угрызениями совести. Если в невинности сердца своего он улыбается ясно и благожелательно, наблюдатель мыслит: вот лживой и притворной улыбкой хочет он скрыть свою зловещую тайну. Что бы он ни делал, он кажется виновным, – такова сила предвзятости, с которой предстоит мне бороться. Но я не виновен и буду самим собою в твердой уверенности, что ясность духа моего разрушит злые чары предубеждения».[23 - Мечта некоторых увлекающихся людей о том, что наступит счастливое время, когда органы восприятия у человека станут столь чувствительны, что сделается возможным непосредственное чтение мыслей, – мне кажется абсолютно неосуществимою. Даже рентгеновские лучи, если бы таковые были открыты для души, не могут проникнуть в глубочайшие тайники ее, и всегда останется место, куда может скрыться преследуемая мысль.]
И уже на следующий день г. начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность, а через месяц на всех дверях, во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений. Я же радовался глубоко с сознанием, что если в целесообразности тюрьмы и существуют некоторые пробелы, то не потому, чтобы в основе ее лежала ложная идея, а лишь потому, что ограничены силы человека; но чего не может сделать один, то делает другой, и так в совместной, дружной работе движется человечество к осуществлению великих заветов разума и строгих предначертаний неумолимой справедливости.
Глубокое удовлетворение дает мне весь распорядок нашей тюремной жизни. Часы вставания и сна, обеда и прогулок расположены столь рационально, в таком соответствии с истинными потребностями природы, что уже вскоре теряют характер некоторой принудительности и становятся естественными, даже дорогими привычками. Только этим могу объяснить тот интересный факт, что, будучи на свободе юношей нервным и слабосильным, склонным к простудам и заболеваниям, в нашей тюрьме я значительно окреп и для своих 60 лет пользуюсь завидным здоровьем. Я не толст, но и не худ, имею сильные легкие и сохранил почти все зубы, за исключением двух коренных с левой стороны челюсти; характер у меня прекрасный, ровный, сон крепкий[24 - Упоминаю об этом интересном обстоятельстве, так как обычно у стариков сон очень легок и не крепок.], почти без сновидений. Фигурою своею, в которой преобладающим является выражение спокойной силы и уверенности, а также лицом я напоминаю несколько микельанджеловского Моисея – так говорят, по крайней мере, некоторые из моих любезных посетителей.
Но еще более, нежели правильный и здоровый режим, укреплению души моей и тела содействовала та удивительная и вместе совершенно понятная и естественная особенность нашей тюрьмы, по которой из жизни ее совершенно устранен элемент случайного и неожиданного. Не имея ни семьи, ни друзей, я совершенно избавлен от тех гибельных для жизни потрясений, какие приносят с собою измена, болезни, наконец, смерть близких, – пусть вспомнит мой благосклонный читатель, как много людей погибло на его глазах не через себя, а лишь вследствие того, что капризная судьба связала их с людьми недостойными[25 - Не говоря о непосредственном воздействии одного человека на другого, с которым так или иначе связала его судьба, я сошлюсь на общеизвестное, так называемое «влияние среды». Имея своею «средою» только воздух камеры, в котором я живу, я, конечно, совершенно избавлен от этих, часто пагубных влияний.]. Не разменивая своего чувства любви на мелкие личные привязанности, я тем самым одновременно освобождаю его для широкой, мощной любви к человечеству, а так как человечество бессмертно, не подвержено болезням и в гармоничном целом своем несомненно движется к совершенству, то и любовь к нему является наиболее верной гарантией душевного и телесного здоровья.[26 - Известно, что все люди, обладающие могучею любовью к человечеству, как-то: пророки, великие проповедники, философы, моралисты, ученые и даже художники умирали в очень преклонном возрасте, далеко превышающем средний статистический возраст. И наоборот: все человеконенавистники погибают рано. Исключение можно сделать разве только для одного дьявола, который бессмертен, – да простится мне эта маленькая шутка.]
Мой день ясен; и столь же ясны, как он, все грядущие дни, ровной и светлой чередою плывущие ко мне навстречу. Ко мне не ворвется корыстный убийца, меня не раздавит шальной автомобиль, на меня не свалится болезнь ребенка, ко мне не подкрадется из темноты жестокое предательство – моя мысль свободна, мое сердце спокойно, моя душа ясна и светла. Ясные и точные правила нашей тюрьмы определяют все, чего не должен я делать, избавляя меня от тех несносных колебаний, сомнений и ошибок, которыми так чревата практическая жизнь. Правда, и в нашу тюрьму, сквозь ее высокие стены, проникает иногда веяние того, что люди невежественные называют случаем или даже роком и что является только необходимым отражением общих законов[27 - Не ведая большинства причин тех явлений, что составляют их жизнь, люди в недоумении останавливаются перед следствиями и создают понятие какого-то особенного вульгарного рока, который будто бы тем и занят, чтобы причинять им неприятности или доставлять удовольствие. Отсюда и уверенность, что судьбу можно надуть, как какого-нибудь ротозея, надев на руку цепочку или стараясь ничего не предпринимать в пятницу.], но потрясенная временно жизнь быстро возвращается в свое обычное русло, как река после разлива. К этой категории случайностей нужно отнести упомянутое выше убийство надзирателя, редкие и всегда неудачные попытки к бегству, а также смертные казни, ареною которых является один из отдаленнейших дворов нашей тюрьмы. Но и здесь я должен отдать справедливость той мудрой целесообразности, с какою проводятся казни: совершаясь обычно на рассвете, в пору наиболее крепкого сна, в надлежащем расстоянии от наших камер, они не нарушают покоя лиц сторонних и незаинтересованных. Только однажды, на рассвете, мне послышался чей-то взволнованный крик, но очень возможно, что я ошибся, приняв за призыв о помощи ночной вопль какого-либо животного или перенеся в действительность отрывок собственного сна.[28 - Иногда днем слышится стук топора, сколачивающего эшафот, но так как этот звук ничем не отличается от того, как если бы вместо эшафота плотники строили просто качели для детей г. начальника, то лишь болезненно настроенное воображение способно найти в нем предлог для волнений.]
Наконец есть еще одна особенность в строе нашей тюрьмы, которую я считаю наиболее плодотворною, всему целому придающей характер суровой и благородной справедливости. Предоставленный самому себе, и только себе, узник не может рассчитывать ни на поддержку, ни на ту фальшивую, досадную жалость, которая столь часто выпадает на долю людей слабых, сохраняя их для жизни и тем самым искажая основные цели природы. Признаюсь, не без некоторой гордости помышляю я о том, что если сейчас я пользуюсь общим уважением и преклонением, если мозг мой силен, воля крепка, взгляд на жизнь ясен и светел, то этим я обязан только себе, своей силе и настойчивости. Сколько людей слабых погибло бы на моем месте жертвою безумия, отчаяния, тоски – а я победил все! Я перевернул мир; моей душе я придал ту форму, какую пожелала моя мысль; в пустыне, работая один, изнемогая от усталости, я воздвиг стройное здание, в котором живу ныне радостно и спокойно – как царь. Разрушьте его – и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавым потом, построю его! Ибо я должен жить. Да простится мне невольный пафос последних строк, столь неидущих к моему уравновешенному и спокойному характеру. Но трудно не взволноваться, вспоминая пройденный путь; надеюсь, впрочем, что в будущем я не омрачу настроения моего читателя какими-либо вспышками взволнованного чувства. Кричит только тот, кто не уверен в правде своих слов; истине же подобает спокойная твердость и холодная простота.
Р. S. Не помню, говорил я или нет, что злодей, умертвивший моего отца, до сих пор еще не найден.
Часть 5
Время от времени, отступая от спокойной формы исторического повествования, я должен останавливаться на текущем моменте. Так, позволю себе в немногих строках познакомить моего читателя с довольно интересным экземпляром человеческой породы, обретенным мною случайно в недрах нашей тюрьмы. Поводом к знакомству послужило следующее обстоятельство. На днях в послеобеденную пору ко мне изволил пожаловать г. начальник для обычной беседы и, между прочим, сказал, что в тюрьме содержится в настоящее время один очень несчастный человек, на которого я мог бы оказать благотворное влияние. Я любезно выразил мою полную готовность, и вот уже несколько дней подряд, с разрешения г. начальника, я подолгу беседую с художником К. Та первоначальная враждебность, даже строптивость, с какой он, к прискорбию моему, встретил меня при первом визите, ныне совершенно исчезла под влиянием моих речей. Охотно и с интересом выслушивая мои всегда умиротворяющие слова, он постепенно, после целого ряда настойчивых вопросов, рассказал мне свою довольно необычную историю.
Это господин лет двадцати шести-восьми, с приятной внешностью и вполне приличными манерами, свидетельствующими о хорошем воспитании[29 - Господин К. принадлежит к хорошей семье, обладающей приличными средствами.]. Некоторая, вполне, впрочем, естественная несдержанность в речах, страстная порывистость, с какой он рассказывает о себе, порою горький, даже иронический смех, а вслед затем тяжелая задумчивость, из которой с трудом удается его извлечь даже прикосновением руки, – дополняют облик моего нового знакомца. Мне лично он не особенно симпатичен, и, как ни странно, особенно неприятно действует на меня его отвратительная привычка постоянно шевелить тонкими худыми пальцами и беспомощно хвататься ими за руку собеседника.
О своей прошлой жизни г. К. рассказал мне очень мало.
– Ну что там! Был художником, вот и все, – повторяет он с досадливой гримасой и совершенно отказывается говорить о том «безнравственном деянии»[30 - Меня, как психофизиолога, очень интересовали свойства этого загадочного деяния, за которым чувствуется какая-то извращенность.], за которое присужден к одиночному заключению.
– Я не хочу развращать вас, дедушка, живите себе честно, – шутит он с несколько неприличной фамильярностью, которую я допускаю единственно из желания сделать приятное г. начальнику тюрьмы, выпытав у узника действительную причину его страданий, принимающих иногда тяжелую форму буйства и угроз. И действительно, в одну из тяжелых минут, когда воля к сопротивлению у г. К. ослабела в силу томящей его бессонницы, я присел к нему на кровать, несколько приласкал его и вообще отнесся к нему с такой отеческой мягкостью, что тут же он выболтал все. Не желая утомлять читателя точным воспроизведением его истерических выкриков, хохота и слез, я передам лишь содержание его рассказа. Горе г. К., вначале для меня не совсем понятное, заключается в том, что для рисования ему дают не бумагу и не полотно, а большую грифельную доску и грифель[31 - Между прочим, поразительно искусство, с каким он овладел новым дли него материалом: я видел некоторые его произведения, и, как мне кажется, они могут удовлетворить вкусу самого строгого знатока графических искусств; впрочем, я лично к живописи равнодушен, предпочитая ей живую, правдивую природу.]. Таким образом, благодаря свойству материала, прежде чем начать новую картину, г. К. должен уничтожить прежнюю, начисто стерши ее с грифельной доски; и это будто бы каждый раз доводит его почти до исступления.
– Вы не можете себе представить, что это значит, – рассказывал он, хватая мои руки своими тонкими, цепкими пальцами, – пока я рисую, я, знаете, совсем забываю, что это бесцельно, бываю очень весел и даже что-то там такое свищу, и раз даже сидел за это в карцере, так как в вашей проклятой тюрьме и свистеть нельзя. Но это пустяки, я там выспался по крайней мере. А вот когда кончу… нет, даже только когда подхожу к концу, тут наступает, дедушка, такое ужасное, что хочется вырвать из головы свой мозг и топтать его ногами[32 - Рискованный образ, свидетельствующий о том, что мозг моего юного друга находится не в полном порядке.]. Вы понимаете меня? – Понимаю, мой друг, вполне понимаю и сочувствую вам.
– Ей-Богу? Ну так слушайте, дедушка. Уже последние штрихи я провожу с такою болью, с такой тоской и безнадежностью, как будто навсегда прощаюсь с самым любимым человеком. Но вот кончил – вы понимаете, что это значит? Это значит, что оно ожило, оно живет, что в нем уже есть своя таинственная жизнь. И в то же время оно обречено уже на смерть, оно уже умерло, оно уже мертво, как селедка, – вы можете что-нибудь в этом понять? Я ничего не понимаю. И вот вы представьте, я все-таки, глупец, радуюсь, плачу и радуюсь. Нет, думаю, этого уж я не уничтожу, оно так хорошо, что я его не уничтожу, пусть живет. И правда, мне в это время ничего нового и писать не хочется, совсем не хочется. А все-таки страшно – вы понимаете меня?
– Вполне, мой друг. Несомненно, на другой день рисунок перестает вам нравиться…
– Фу, дедушка, какую ерунду вы говорите! (Он так именно и выразился: «ерунду»). Как может разонравиться умирающий ребенок? Ну, конечно, если б он пожил, из него вышел бы настоящий подлец[33 - Почему из ребенка, если он останется жив, должен непременно выйти подлец? Удивительное легкомыслие.], а когда он умирает… Нет, не то, дедушка, не то. Ведь я сам его убиваю. Целую ночь я не сплю, вскакиваю, гляжу на него и так его люблю, что хочется его украсть. У кого украсть? А я почем знаю. А как наступит утро, я уже чувствую, что не могу, что я снова должен взять этот проклятый грифель и снова творить. Какая насмешка, творить! Да что я, каторжник, что ли?
– Мой друг, вы действительно находитесь в каторжной тюрьме.
– Дедушка, дедушка! Когда я начинаю с губкой подкрадываться к доске, так ведь я же на убийцу похож. Случается, день, два хожу я около него… знаете, я раз палец себе на правой руке обкусал, чтоб не писать, ну и, конечно, пустяки, потому что начал учиться левой рукой. Что это за потребность творить? Творить во что бы то ни стало, творить для мученья, творить, зная, что все это погибнет, вы понимаете это?
– Кончайте, мой друг, не волнуйтесь, потом я изложу мой взгляд.
К сожалению, мой совет едва ли даже достиг ушей г. К. В одном из тех пароксизмов отчаяния, которые так напугали г. начальника тюрьмы, он начал биться на постели, рвать на себе одежду, кричать и плакать, вообще проявил все признаки крайнего огорчения. С глубоким волнением смотрел я на муки несчастного молодого человека (по сравнению с собой я мог бы назвать его юношей), тщетно пытаясь удержать его пальцы, разрывавшие одежду, – я знал, что за это нарушение дисциплины его ждет новый карцер. «О, пылкая юность, – подумал я, когда он несколько успокоился, и ласково разбирал рукою его тонкие, спутавшиеся волосы, – как легко ты впадаешь в отчаяние! Какой-то рисунок, который в конце концов, быть может, пропал бы у грязного старьевщика, торговца старой бронзой и склеенным фарфором, может причинить тебе столько страданий!» Но, конечно, я не сказал этого моему юному другу, стараясь, как и нужно в таких случаях, не раздражать его излишними противоречиями.[34 - Человек так любит, чтобы с ним соглашались, что согласием в пустяках можно задешево купить его для весьма крупных и совсем для него неожиданных решений.]
– Спасибо вам, дедушка, – сказал г. К., видимо успокоившись. – Говоря по правде, вы показались мне сначала очень странным: лицо у вас такое почтенное, а в глазах… Вы никого не убивали, дедушка?
Умышленно привожу эту злую и неосторожную фразу, чтобы показать, как в глазах людей легкомысленных и неглубоких печать тяжкого обвинения превращается в печать самого злодейства. Сдержав чувство горечи, я спокойно заметил дерзкому юноше:
– Вы художник, дитя мое, вам ведомы тайны человеческого лица, этой гибкой, подвижной и изменчивой маски, принимающей, подобно морю, отражение бегущих облаков и голубого эфира. Будучи зеленой, морская влага голубеет под ясным небом и становится черной, когда черно небо и мрачны тяжелые тучи. Чего же вы хотите от моего лица, над которым тридцать лет тяготеет обвинение в жесточайшем злодействе?
Но, занятый своими мыслями, художник не обратил, по-видимому, особенного внимания на мои слова и продолжал упавшим голосом:
– Что же мне делать? Вы видели тот мой рисунок – я его уничтожил и вот уже целую неделю не берусь за грифель. Конечно, – продолжал он раздумчиво, потирая лоб, – лучше бы совсем разбить доску, тогда в наказанье мне не дали бы новую… – Вы лучше просто возвратите ее начальству.
– Ну хорошо, подержусь я еще неделю, а потом? Ведь я же знаю себя. Ведь уже сейчас этот дьявол подталкивает мою руку: возьми грифель, возьми грифель.
Как раз в это время, блуждая рассеянным взглядом по камере, я вдруг заметил, что часть платья художника, висевшего на стене, неестественно раздвинута и один конец искусно прихвачен спинкою кровати. Сделав вид, что я устал и просто хочу пройти по камере, я пошатнулся как бы от старческой дрожи в ногах и отдернул одежду: вся стена за ней была испещрена рисунками.
Художник уже вскочил с постели, и так мы молча стояли друг против друга. С мягкой укоризной я сказал:
– Как вы могли себе позволить это, мой друг! Ведь вы же знаете правила[35 - Примечание третье к § 25 «Правил для заключенных».] тюрьмы, по которым никакие надписи и рисунки на стенах не допускаются!
– Не знаю я никаких правил! – угрюмо сказал г. К.
– И потом, – уже строго продолжал я, – вы солгали мне, мой друг. Вы сказали, что уже целую неделю вы не брали грифеля в руки…
– Конечно, не брал, – с странной насмешкой и даже вызовом сказал художник.
Вообще, даже будучи уличен, он совершенно не обнаруживал признаков раскаяния и смотрел скорее насмешливо, чем виновато. Вглядевшись пристальнее в рисунки на стене, изображавшие каких-то человечков в разнообразных позах, я заинтересовался странным буровато-желтым цветом неведомого карандаша.
– Это йод? Вы сказали, что у вас что-нибудь болит, и достали йоду?
– Нет, кровь.
– Кровь? – Да.
Скажу откровенно, в эту минуту он мне даже понравился.
– Как вы добыли ее?
– Из руки.
– Из руки? Но как же вы сумели укрыться от наблюдающего за вами в глазок? Он хитро улыбнулся и даже подмигнул:
– А вы разве не знаете, что всегда можно обмануть, если захочешь?
Мои симпатии сразу рассеялись: я видел перед собою не особенно умного и, вероятно, уже сильно испорченного человека, даже не допускающего мысли, что существуют люди, которые не в состоянии и просто не умеют лгать. Помня, однако, данное мною г. начальнику обещание, я принял вид спокойного достоинства и ласково, как только мать могла бы говорить своему ребенку, сказал ему:
– Не удивляйтесь и не осуждайте моей строгости, мой друг. Я старик, полжизни проведший в этой тюрьме, у меня уже сложились известные привычки, как у всех стариков, и, сам подчиняясь правилам, я, быть может, несколько преувеличенно требую того же от других. Конечно, вы сами сотрете эти рисунки, – как мне их ни жаль, ибо они искренно восхищают меня, – и я ничего не скажу администрации. И мы все это забудем, как будто не было ничего. Хорошо?