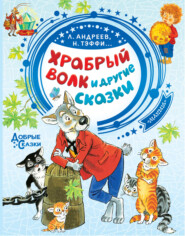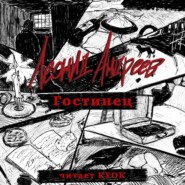По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести и рассказы (сборник)
Жанр
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты чего же?
– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в… в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!
Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.
– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.
– Да ты, чучело огородное, пойми…
Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:
– Пойдем ко мне разговляться.
– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!
– Пойдем, говорю!
Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще… разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.
– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!
– Да нет, не то я говорю… – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык…
Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.
Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.
– Иван Акиндиныч, а что же вы Ванятке-то… сюрпризец? – спрашивает Марья.
– Не надо, потом… – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.
– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим… как звать вас по батюшке?
– Андреич.
– Кушайте, Герасим Андреич.
Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Денники, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянностью и жалкою миной смотрит на жену.
– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.
– По отчеству… Как родился, никто по отчеству… не называл…
Алеша-дурачок
Посвящается Э. В. Готье[2 - Готье Эдуард Владимирович (1859–?) – врач-терапевт, доктор медицины, профессор Московских высших женских курсов. Семья Готье оказывала молодому Андрееву материальную помощь. В 1918 г. Андреев писал матери Анастасии Николаевне: «Да, я очень памятлив, маточка, и если еще иногда забываю сделанное мне зло, то добра никогда не забываю. Разве, напр., я забуду когда-нибудь тех же Готье!.. (Андреев В. Детство. М.: Советский писатель, 1963. С. 212).]
[3 - Впервые, с подзаголовком «Очерк» и посвящением Э. В. Готье, – в газете «Курьер», 1898, 29 и 30 сентября, № 268 и 269.]
Впервые увидел я Алешу при таких обстоятельствах. Был холодный ноябрьский день. Сильный северный ветер быстро гнал по небу низкие тучи, гудел в голых вершинах обнаженных деревьев, срывая оттуда последние желтые скрюченные листья, своим печальным видом напоминавшие дачников, которые никак не могут расстаться с летом и только под влиянием крайней необходимости покидают насиженное место. Тот же суровый и настойчивый ветер подгонял и меня, настолько увеличив мою нормальную способность к передвижению, что путь от гимназии до дому, проходимый мною обыкновенно минут в тридцать, на этот раз сократился по меньшей мере минут на пять. Полагаю, впрочем, что один ветер едва ли достиг бы таких блестящих результатов, если бы не оказали ему содействие мои родители, наградившие меня тем, что в данную минуту свободно можно было назвать парусом, но что при рождении было наименовано гимназическим теплым пальто, сшитым «на рост». По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору. Нельзя сказать, чтобы это было большим утешением, особенно если принять во внимание необыкновенную тяжесть этой вещи и длину ее пол, которые мне приходилось каждый раз с усилием разбрасывать ногами. Если добавить к этому величайшую, с широчайшими полями, ватную гимназическую фуражку, имевшую очевидную и злобную тенденцию навек сокрыть от меня свет божий и похоронить мою бедную голову в своих теплых и мягких недрах, чему единственно препятствовали мои уши, да обширнейший ранец, вплотную набитый толстейшими книжками – и все в переплетах, – то, без всякого риска солгать, меня можно было уподобить путешественнику в Альпийских горах, придавленному обвалом и, кроме того, поставленному в грустную необходимость весь этот обвал тащить на себе. При этих условиях требовать от меня жизнерадостного настроения было бы нелепостью.
Дом наш находился на окраине города О. по Пушкарной улице. Энергично борясь с судьбою, я успел приблизиться к нему и уже взялся за ручку калитки, чтобы через двор пройти к себе, когда из-под козырька фуражки заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чистые каменные ступени парадного крыльца. Сдвинув, насколько было то возможно, фуражку на затылок, я критическим взглядом окинул обладателя грязных ног. При первом поверхностном обзоре я успел заметить, что он одет более чем по-летнему. Коротенький и узкий нанковый пиджак туго обтягивал тело, выше кисти оставляя открытыми большие грязные руки, синевато-багровые от холода. Тот же оттенок носили и другие части тела незнакомца, выглядывавшие из прорванных нанковых брюк, далеко не достигавших нижних конечностей, обутых в опорки. Единственное, что в костюме незнакомца пробудило во мне некоторое чувство зависти, была маленькая-премаленькая засаленная фуражка, еле прикрывавшая стриженую голову.
– Послушай, чего тебе надо? – спросил я с деловитой суровостью барчонка, выполняющего ответственные функции хозяина и домовладельца.
Незнакомец молчал и смотрел на меня. Я тоже молчал и смотрел на него. Поразило меня при этом что-то особенное в выражении его глаз и рта. Лицо у него было совсем моложавое, болезненно-полное и на щеках еле покрытое негустым желтоватым пушком. Носик маленький, красный от холода. Небольшие серые тусклые глаза смотрели на меня в упор, не мигая. В них совсем не было мысли, но откуда-то из глубины поднималась тихая молчаливая мольба, полная несказанной тоски и муки; жалкая, просящая улыбка как бы застыла на его лице.
– Послушай же! Чего тебе надо? – вторично спросил я, но уже со значительно меньшей суровостью. Но незнакомец и на этот раз не удостоил меня ответа. Слегка сгорбившийся, беспомощно, как плети, опустивший руки по бокам, он смотрел на меня тем же взглядом, и лишь губы его стали шевелиться, как будто то, что нужно было ему сказать, находилось на самом кончике языка, но никак не могло соскочить оттуда.
– Ну? – подсобил я ему.
– Копеечку… – послышался тихий, точно откуда-то издали долетевший ответ.
– А ты звонил?
– Не-ет.
– Какой же ты глупый! Кто ж тебе даст, если ты не звонил.
Незнакомец молчал.
– А как тебя зовут?
– Алеша… Дурачок.
Эта необычная рекомендация не показалась мне странной, ибо я давно уже решил, что у незнакомца не все дома, и мне было жаль его. Особенно смущало меня проглядывавшее сквозь прорехи голое, синеватое тело.
– Тебе холодно?
– Холодно.
С быстротой нерассуждающего детства я составил чудный план помощи Алеше, имевший целью не только спасти его от холода, но обеспечить его будущность по меньшей мере на несколько десятков лет. Схватив Алешу за рукав, я энергично потащил его окольным путем в сад, более чем когда-либо негодуя на излишнюю предусмотрительность родителей, воплотившуюся в этом проклятом пальто «на рост». В саду я усадил Алешу на скамейку, с возможной поспешностью отправился домой и, не раздеваясь, потребовал от матери «как можно больше денег». Та изумилась, но ввиду того, что я имел честь состоять первенцем и баловнем дома, а также и потому, что у ней не было мелочи, дала мне рубль, строго приказав принести мне сдачи. Как же, дожидайся!
– На, Алеша. Тут много денег. Смотри, не потеряй.
Для верности я сам зажал в его руку драгоценную бумажку. Но все-таки меня грызло сомнение, хотелось самому проводить до его дома, но, боясь отца, я удовлетворился тем, что долго из калитки наблюдал за уходящим дурачком. И походка-то у него была странная. Поднимет одну ногу и, качнувшись всем телом вперед, тихо-тихо поставит ее наземь носком внутрь. Потом другую. Меня так и тянуло побежать и толкнуть его сзади. От нетерпения я даже начал топать.
Говорят, что павлины горды, но это могут говорить лишь те, кто не видал меня в этот достопамятный день. Но радость от сознания сделанного добра была, пожалуй, еще выше гордости и страдала лишь одним недостатком: не была разделена. Впрочем, этот недостаток легко было исправить: у меня был поверенный. В этой почетной должности состоял наш дворник Василий, молодой, веселый и плутоватый парень, бывший, как я впоследствии убедился, далеко не бескорыстным другом, так как всякий прилив дружеской откровенности с моей стороны окупался обыкновенно десятком папирос из отцовского ящика. На этот раз, однако, я был обманут. Мой трогательный рассказ о бедном Алеше и рубле вызвал в Василье неистощимое и обидное для моего самолюбия веселье. Даже тезка Василия – мерин Васька (приютом нашей дружбы служила конюшня) – оглянулся и фыркнул, до того выразительно и громко грохотал Василий! Выждав окончания этой неприличной веселости, я в вежливых выражениях попросил разъяснить мне причину смеха. Боже, какое разочарование! Оказалось, что Алеша живет у известной всей Пушкарной Акулины, которая посылает его собирать копеечки, и если копеечек набирается достаточно, совершается на них пьянство и дебош. И следовательно, мой рубль…
– Поди-ка, сейчас посмотри! Вот, небось, задувают… И вас похваливают!..
Представление о весьма вероятных, но мало лестных похвалах, которыми должна была осыпать меня Акулина, погрузило Василия в целый океан смеха, вынырнув из которого он выразил прямое намерение идти к кухарке, у которой он тоже состоял поверенным, и посвятить ее в мою тайну.
Однако я воспротивился этому и путем красноречия, а главным образом обещания поставлять папиросы в таком количестве, что осуществление этого обещания грозило отцу неминуемым банкротством, убедил Василия предпринять вместе со мной небольшую рекогносцировку во владения Акулины.
Жилище Акулины носило название «кадетского корпуса». Что хотели сказать этим пушкари, давшие это прозвище, для меня положительная тайна. Быть может, покосившаяся набок крыша, весьма отдаленно напоминавшая надетую набекрень фуражку, что, как известно, составляет отличие военного звания, дало повод к этому названию, – но кто разберется в тайниках народного духа? Под этой крышей, несколько схожей со швейцарским шале[4 - …швейцарским шале. – Шале – небольшой сельский домик в Альпах.], благодаря обилию набросанных камней и кирпичей, долженствовавших удерживать на месте дрянную настилку, находились четыре стены. Четыре – это очень важная подробность, так как половину лета изба имела всего три стены. Дело в том, что господин Треплов, супруг Акулины, по профессии более алкоголик, чем штукатур, вознамерился основательно ремонтировать свой замок, с каковой целью поочередно вынимал каждую стенку и вставлял хворостиновую. Но так как различные сложные обязанности, связанные с его профессиями, не позволяли ему отдавать много времени этому занятию, то домишко по целым неделям стоял без одной какой-нибудь стены. Особенно интересный вид представлял собой «кадетский корпус», когда была вынута стенка на улицу, и прохожие имели полную возможность наблюдать за течением семейной жизни гг. Трепловых, причем, несомненно, наибольшее количество избранной публики привлекал тот драматический момент, когда Акулина била и укладывала спать своего мужа. В то время я был глубоко убежден, что нет на свете более носатой, более высокой, более сильной, более страшной и громогласной женщины, чем Акулина. Когда по каким-либо обстоятельствам мне нужно было представить себе ведьму, я совершенно удовлетворялся представлением Акулины, останавливаясь перед одним лишь вопросом: каково же должно быть помело, на котором она летает? Поэтому, подходя к корпусу, я сильно трусил и крепко держал Василия за руку.
Отложив и снова заложив дверь, ибо она относилась к категории тех дверей, которые Митрофанушка называл «прилагательными»[5 - …которые Митрофанушка называл «прилагательными»… – Речь идет о персонаже из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).], и петель не имела, – куда-то опустившись, поднявшись и снова опустившись, мы очутились внутри лачуги. Свет слабо проникал в запыленные и заклеенные бумагой оконца, и мне в первую минуту показалось, что в избе масса народу. Присмотревшись, я убедился, однако, что там было всего трое. Спиной к нам сидела Акулина, а на лавке вокруг стола восседали опухшая девица и молодой человек неопределенных занятий и звания. Возле молодого человека лежала гармоника, но, думается мне, единственно для контенансу[6 - …для контенансу. – Для виду, от фp. сontenance.], так как между верхней и нижней половиной этого инструмента произошел видимый и едва ли поправимый разрыв. На грязном столе стояла бутылка водки, валялся раскрошенный хлеб и виднелись остатки селедки, обычно именуемой пушкарями «кобылой». Алеши не было видно.
– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в… в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!
Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи: всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.
– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.
– Да ты, чучело огородное, пойми…
Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:
– Пойдем ко мне разговляться.
– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!
– Пойдем, говорю!
Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще… разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.
– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!
– Да нет, не то я говорю… – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык…
Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.
Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.
– Иван Акиндиныч, а что же вы Ванятке-то… сюрпризец? – спрашивает Марья.
– Не надо, потом… – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.
– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим… как звать вас по батюшке?
– Андреич.
– Кушайте, Герасим Андреич.
Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Денники, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянностью и жалкою миной смотрит на жену.
– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.
– По отчеству… Как родился, никто по отчеству… не называл…
Алеша-дурачок
Посвящается Э. В. Готье[2 - Готье Эдуард Владимирович (1859–?) – врач-терапевт, доктор медицины, профессор Московских высших женских курсов. Семья Готье оказывала молодому Андрееву материальную помощь. В 1918 г. Андреев писал матери Анастасии Николаевне: «Да, я очень памятлив, маточка, и если еще иногда забываю сделанное мне зло, то добра никогда не забываю. Разве, напр., я забуду когда-нибудь тех же Готье!.. (Андреев В. Детство. М.: Советский писатель, 1963. С. 212).]
[3 - Впервые, с подзаголовком «Очерк» и посвящением Э. В. Готье, – в газете «Курьер», 1898, 29 и 30 сентября, № 268 и 269.]
Впервые увидел я Алешу при таких обстоятельствах. Был холодный ноябрьский день. Сильный северный ветер быстро гнал по небу низкие тучи, гудел в голых вершинах обнаженных деревьев, срывая оттуда последние желтые скрюченные листья, своим печальным видом напоминавшие дачников, которые никак не могут расстаться с летом и только под влиянием крайней необходимости покидают насиженное место. Тот же суровый и настойчивый ветер подгонял и меня, настолько увеличив мою нормальную способность к передвижению, что путь от гимназии до дому, проходимый мною обыкновенно минут в тридцать, на этот раз сократился по меньшей мере минут на пять. Полагаю, впрочем, что один ветер едва ли достиг бы таких блестящих результатов, если бы не оказали ему содействие мои родители, наградившие меня тем, что в данную минуту свободно можно было назвать парусом, но что при рождении было наименовано гимназическим теплым пальто, сшитым «на рост». По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору. Нельзя сказать, чтобы это было большим утешением, особенно если принять во внимание необыкновенную тяжесть этой вещи и длину ее пол, которые мне приходилось каждый раз с усилием разбрасывать ногами. Если добавить к этому величайшую, с широчайшими полями, ватную гимназическую фуражку, имевшую очевидную и злобную тенденцию навек сокрыть от меня свет божий и похоронить мою бедную голову в своих теплых и мягких недрах, чему единственно препятствовали мои уши, да обширнейший ранец, вплотную набитый толстейшими книжками – и все в переплетах, – то, без всякого риска солгать, меня можно было уподобить путешественнику в Альпийских горах, придавленному обвалом и, кроме того, поставленному в грустную необходимость весь этот обвал тащить на себе. При этих условиях требовать от меня жизнерадостного настроения было бы нелепостью.
Дом наш находился на окраине города О. по Пушкарной улице. Энергично борясь с судьбою, я успел приблизиться к нему и уже взялся за ручку калитки, чтобы через двор пройти к себе, когда из-под козырька фуражки заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чистые каменные ступени парадного крыльца. Сдвинув, насколько было то возможно, фуражку на затылок, я критическим взглядом окинул обладателя грязных ног. При первом поверхностном обзоре я успел заметить, что он одет более чем по-летнему. Коротенький и узкий нанковый пиджак туго обтягивал тело, выше кисти оставляя открытыми большие грязные руки, синевато-багровые от холода. Тот же оттенок носили и другие части тела незнакомца, выглядывавшие из прорванных нанковых брюк, далеко не достигавших нижних конечностей, обутых в опорки. Единственное, что в костюме незнакомца пробудило во мне некоторое чувство зависти, была маленькая-премаленькая засаленная фуражка, еле прикрывавшая стриженую голову.
– Послушай, чего тебе надо? – спросил я с деловитой суровостью барчонка, выполняющего ответственные функции хозяина и домовладельца.
Незнакомец молчал и смотрел на меня. Я тоже молчал и смотрел на него. Поразило меня при этом что-то особенное в выражении его глаз и рта. Лицо у него было совсем моложавое, болезненно-полное и на щеках еле покрытое негустым желтоватым пушком. Носик маленький, красный от холода. Небольшие серые тусклые глаза смотрели на меня в упор, не мигая. В них совсем не было мысли, но откуда-то из глубины поднималась тихая молчаливая мольба, полная несказанной тоски и муки; жалкая, просящая улыбка как бы застыла на его лице.
– Послушай же! Чего тебе надо? – вторично спросил я, но уже со значительно меньшей суровостью. Но незнакомец и на этот раз не удостоил меня ответа. Слегка сгорбившийся, беспомощно, как плети, опустивший руки по бокам, он смотрел на меня тем же взглядом, и лишь губы его стали шевелиться, как будто то, что нужно было ему сказать, находилось на самом кончике языка, но никак не могло соскочить оттуда.
– Ну? – подсобил я ему.
– Копеечку… – послышался тихий, точно откуда-то издали долетевший ответ.
– А ты звонил?
– Не-ет.
– Какой же ты глупый! Кто ж тебе даст, если ты не звонил.
Незнакомец молчал.
– А как тебя зовут?
– Алеша… Дурачок.
Эта необычная рекомендация не показалась мне странной, ибо я давно уже решил, что у незнакомца не все дома, и мне было жаль его. Особенно смущало меня проглядывавшее сквозь прорехи голое, синеватое тело.
– Тебе холодно?
– Холодно.
С быстротой нерассуждающего детства я составил чудный план помощи Алеше, имевший целью не только спасти его от холода, но обеспечить его будущность по меньшей мере на несколько десятков лет. Схватив Алешу за рукав, я энергично потащил его окольным путем в сад, более чем когда-либо негодуя на излишнюю предусмотрительность родителей, воплотившуюся в этом проклятом пальто «на рост». В саду я усадил Алешу на скамейку, с возможной поспешностью отправился домой и, не раздеваясь, потребовал от матери «как можно больше денег». Та изумилась, но ввиду того, что я имел честь состоять первенцем и баловнем дома, а также и потому, что у ней не было мелочи, дала мне рубль, строго приказав принести мне сдачи. Как же, дожидайся!
– На, Алеша. Тут много денег. Смотри, не потеряй.
Для верности я сам зажал в его руку драгоценную бумажку. Но все-таки меня грызло сомнение, хотелось самому проводить до его дома, но, боясь отца, я удовлетворился тем, что долго из калитки наблюдал за уходящим дурачком. И походка-то у него была странная. Поднимет одну ногу и, качнувшись всем телом вперед, тихо-тихо поставит ее наземь носком внутрь. Потом другую. Меня так и тянуло побежать и толкнуть его сзади. От нетерпения я даже начал топать.
Говорят, что павлины горды, но это могут говорить лишь те, кто не видал меня в этот достопамятный день. Но радость от сознания сделанного добра была, пожалуй, еще выше гордости и страдала лишь одним недостатком: не была разделена. Впрочем, этот недостаток легко было исправить: у меня был поверенный. В этой почетной должности состоял наш дворник Василий, молодой, веселый и плутоватый парень, бывший, как я впоследствии убедился, далеко не бескорыстным другом, так как всякий прилив дружеской откровенности с моей стороны окупался обыкновенно десятком папирос из отцовского ящика. На этот раз, однако, я был обманут. Мой трогательный рассказ о бедном Алеше и рубле вызвал в Василье неистощимое и обидное для моего самолюбия веселье. Даже тезка Василия – мерин Васька (приютом нашей дружбы служила конюшня) – оглянулся и фыркнул, до того выразительно и громко грохотал Василий! Выждав окончания этой неприличной веселости, я в вежливых выражениях попросил разъяснить мне причину смеха. Боже, какое разочарование! Оказалось, что Алеша живет у известной всей Пушкарной Акулины, которая посылает его собирать копеечки, и если копеечек набирается достаточно, совершается на них пьянство и дебош. И следовательно, мой рубль…
– Поди-ка, сейчас посмотри! Вот, небось, задувают… И вас похваливают!..
Представление о весьма вероятных, но мало лестных похвалах, которыми должна была осыпать меня Акулина, погрузило Василия в целый океан смеха, вынырнув из которого он выразил прямое намерение идти к кухарке, у которой он тоже состоял поверенным, и посвятить ее в мою тайну.
Однако я воспротивился этому и путем красноречия, а главным образом обещания поставлять папиросы в таком количестве, что осуществление этого обещания грозило отцу неминуемым банкротством, убедил Василия предпринять вместе со мной небольшую рекогносцировку во владения Акулины.
Жилище Акулины носило название «кадетского корпуса». Что хотели сказать этим пушкари, давшие это прозвище, для меня положительная тайна. Быть может, покосившаяся набок крыша, весьма отдаленно напоминавшая надетую набекрень фуражку, что, как известно, составляет отличие военного звания, дало повод к этому названию, – но кто разберется в тайниках народного духа? Под этой крышей, несколько схожей со швейцарским шале[4 - …швейцарским шале. – Шале – небольшой сельский домик в Альпах.], благодаря обилию набросанных камней и кирпичей, долженствовавших удерживать на месте дрянную настилку, находились четыре стены. Четыре – это очень важная подробность, так как половину лета изба имела всего три стены. Дело в том, что господин Треплов, супруг Акулины, по профессии более алкоголик, чем штукатур, вознамерился основательно ремонтировать свой замок, с каковой целью поочередно вынимал каждую стенку и вставлял хворостиновую. Но так как различные сложные обязанности, связанные с его профессиями, не позволяли ему отдавать много времени этому занятию, то домишко по целым неделям стоял без одной какой-нибудь стены. Особенно интересный вид представлял собой «кадетский корпус», когда была вынута стенка на улицу, и прохожие имели полную возможность наблюдать за течением семейной жизни гг. Трепловых, причем, несомненно, наибольшее количество избранной публики привлекал тот драматический момент, когда Акулина била и укладывала спать своего мужа. В то время я был глубоко убежден, что нет на свете более носатой, более высокой, более сильной, более страшной и громогласной женщины, чем Акулина. Когда по каким-либо обстоятельствам мне нужно было представить себе ведьму, я совершенно удовлетворялся представлением Акулины, останавливаясь перед одним лишь вопросом: каково же должно быть помело, на котором она летает? Поэтому, подходя к корпусу, я сильно трусил и крепко держал Василия за руку.
Отложив и снова заложив дверь, ибо она относилась к категории тех дверей, которые Митрофанушка называл «прилагательными»[5 - …которые Митрофанушка называл «прилагательными»… – Речь идет о персонаже из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).], и петель не имела, – куда-то опустившись, поднявшись и снова опустившись, мы очутились внутри лачуги. Свет слабо проникал в запыленные и заклеенные бумагой оконца, и мне в первую минуту показалось, что в избе масса народу. Присмотревшись, я убедился, однако, что там было всего трое. Спиной к нам сидела Акулина, а на лавке вокруг стола восседали опухшая девица и молодой человек неопределенных занятий и звания. Возле молодого человека лежала гармоника, но, думается мне, единственно для контенансу[6 - …для контенансу. – Для виду, от фp. сontenance.], так как между верхней и нижней половиной этого инструмента произошел видимый и едва ли поправимый разрыв. На грязном столе стояла бутылка водки, валялся раскрошенный хлеб и виднелись остатки селедки, обычно именуемой пушкарями «кобылой». Алеши не было видно.