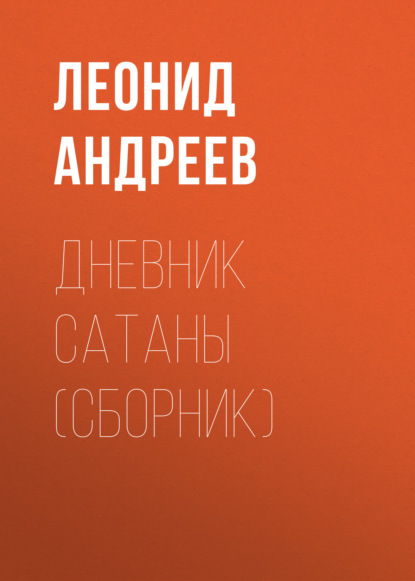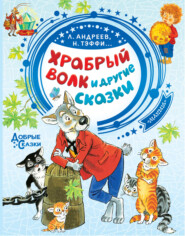По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дневник Сатаны (сборник)
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Двадцатый и его предшественники редко показывались народу, и видели их немногие; но все они любили оделять народ своими изображениями, оставляя его на монетах, высекая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах и всюду украшая его и совершенствуя художественным вымыслом. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица – одного и того же, простого и загадочного лица, множественностью своею насильственно вторгавшегося в память, покорявшего воображение, приобретавшего мнимое вездесущее, как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, плохо помнившие своего деда, совсем не знающие лица прадеда, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тысячу лет назад. И от этого, как ни просто бывало лицо одного, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным и значительным лицо мертвого, ибо сквозь его привычные знакомые черты глядит сама таинственная и могущественная смерть.
Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа у змеи: за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника, отмечающего минуты:
– Так было – так будет.
II
И случилось, что в обширном королевстве, владыкою которого был Двадцатый, произошла революция – столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же Двадцатый, – а власть незаметно умерла, и никто не знал часа ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ потерял привычку повиноваться, и только, – и сразу из множества отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений выросло огромное, непобедимое движение. И как только перестал он повиноваться, сразу открылись все его старые, многовековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, несправедливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справедливости. И вдруг стал на дыбы – огромный, взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток.
Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу отовсюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все ближе подбирались к трону – уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка.
Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из соседнего покоя вползала из-под дверей черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к кафтану короля прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:
– Да здравствует Двадцатый!
Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду, и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пестрого шута, начинал вопить:
– Да здравствует Двадцатый!
Смеялись. А к вечеру – сумрачные лица и подозрительность во взорах; как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый народ? Во дворце темно; огромные окна блестят фальшиво и смотрят мрачно: там задумывают что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил своим прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызвать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.
– Да здравствует Двадцатый!
Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, поднятые кверху; торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом блистают огромные окна.
– Да здравствует Двадцатый!
Смятый часовой колышется в толпе; он потерял ружье и улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на железных дверях; на высоких железных прутьях ограды выросли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протянутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несется груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и придвинулись к толпе. Что-то заползало по стенам и уходит на крышу. Замок молчит. Решетка вся обросла людьми, и вдруг исчезла, и стало ровно – народ движется.
– Да здравствует Двадцатый!
За окнами забегали бледные огни. Чье-то уродливое лицо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни растут, множатся, движутся взад и вперед, – похоже на странную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяются, – и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет, но лица темны, и может быть, это не они.
– Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!
Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере выступили два багровых колеблющихся лица. Вопли в дальних рядах:
– Это не они! Король бежал!
Но ближайшие уже кричат с радостью минувшего испуга:
– Да здравствует Двадцатый!
Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то озаряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тенях; это они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадцатый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те загадочные существа, у которых так много непонятной, почти божеской власти, и за ними в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие, страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий голос; когда он молчит и кланяется своим огненным лицом, на него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней дьявола.
– Говори, Двадцатый! Говори!
Странный жест рукою, призывающий к молчанию, – странный, повелительный жест, такой древний, как сама власть; и тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древние, странные слова:
– Я рад видеть мой добрый народ.
И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад. Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя, Двадцатый, люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова придем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.
– Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да здравствует господин!
– Рабы!
Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обратно движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, наливаются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, облака. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть бы он закричал от испуга или от боли.
Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном топоте ног, полные темных воспоминаний, предчувствий и ужаса. И всю ночь реют над городом страшные сны.
III
Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе, когда верный сын родины узнал его под личиною грязного слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображением того, – и зазвонили тревожно колокола, и дома выбросили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне, огромной черной башне, у которой толстые стены и маленькие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступные подкупу, лести и очарованию. Чтобы не было страшно, стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они толстыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, озираясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный смех он превращает в раболепные слезы; сквозь толстые стены он сеет измену и предательство, и черными цветами они всходят в народе, пятная золотой покров свободы, как шкуру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам, сползши со своих тронов, сбираются такие же могущественные владыки и приводят орды диких, одураченных людей, матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В домах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в гордых чертогах народного собрания – всюду шипит измена и черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему изменили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерзкий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные чьего-то золота.
Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двенадцати часам дня все находились в своих жилищах; и когда в назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гулко покатились по опустевшим, безмолвным улицам. С тех пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлюдие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного конца ее до другого – ни одного прохожего, ни одного экипажа. Скользят у молчаливых, стен встревоженные, изумленные кошки: они не понимают – день это или ночь; и так тихо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль улиц, как невидимые черные метлы, и точно выметают город. Скрылись и кошки, испуганные чем-то. Безлюдие, тишина.
И на всех улицах показываются одновременно небольшие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от них больше идет беспокойного шума, чем производит его весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и экипажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова выбрасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух бледных от злости или красных от гнева людей. Они идут, презрительно заложив руки в карманы, – в эти странные дни никто не боялся смерти, даже изменники, – и пропадают в черной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть: так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предательства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.
И в этот вечер было в городе ликование. Опустели снова дома, и снова наполнились улицы, и черная безграничная толпа закопошилась в странном, одуряющем танце, сплетении резких и неожиданных движений. Танцевали с одного конца города до другого. У редких фонарей, как пенистый прибой у скалы, светлелись отдельные всплески, переплетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза – все кружащееся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремительно, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то повешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти до тюрьмы. Его вытянутых ног, жадно стремящихся к земле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий танцами.
Потом ходили к черной башне и, задрав головы, кричали в толстые стены:
– Смерть Двадцатому! Смерть!
В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны народа сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы напугать:
– Смерть Двадцатому!
И уходили, давая место новым крикунам. А ночью снова реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и не исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни и тюрьмы, распертые изменою и предательством.
И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и кос; набрали толстых поленьев и тяжелых камней и двое суток работали в тюрьмах, изнемогая от усталости. Тут же и спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не принимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь тысяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, чтобы очистить город и дать жизнь молодой свободе.
Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отрубленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на них. А в народном собрании царили смятение и ужас: искали приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то приказал. Не ты? Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать там, где властью пользуется одно лишь народное собрание? Некоторые улыбаются – они что-то знают.
– Убийцы!
– Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.
Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и забирается в самое сердце народа. Столько принято страданий, столько пролито крови – и все напрасно! Сквозь толстые стены он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и очарование. Горе свободе! С запада приходят страшные вести о страшных раздорах – о битвах, об отколовшейся части безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою, свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все ближе подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны дыханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с севера или с юга, с запада или востока, – он приносит ропот угроз и гнева, и радостью отдается в ухе того, кто заключен в башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе народу! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чудовищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой грудой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на минуту прорваться сквозь тучи, – и какой это был печальный, и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул большими, яркими и страшными глазами – потемнел, растаял, угас, и точно горный взъерошенный хребет опрокинулась туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе народу! Горе свободе!
А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между рычажками и канатами, и, склонив голову набок, смотрит на движение огромного маятника.
– Так было – так будет. Так было – так будет.
Однажды, когда он был еще молод, часы испортились и остановились на целых двое суток. И это было так страшно: как будто все время сразу начало падать куда-то, всею своею незримою массою. А когда часы поправили, стало опять хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по капельке, режется на маленькие кусочки, отпадает по вершочку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движении, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь воркует где-то на карнизе.
– Так было – так будет. Так было – так будет.
Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа у змеи: за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника, отмечающего минуты:
– Так было – так будет.
II
И случилось, что в обширном королевстве, владыкою которого был Двадцатый, произошла революция – столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же Двадцатый, – а власть незаметно умерла, и никто не знал часа ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ потерял привычку повиноваться, и только, – и сразу из множества отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений выросло огромное, непобедимое движение. И как только перестал он повиноваться, сразу открылись все его старые, многовековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, несправедливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справедливости. И вдруг стал на дыбы – огромный, взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток.
Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу отовсюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все ближе подбирались к трону – уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка.
Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из соседнего покоя вползала из-под дверей черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к кафтану короля прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:
– Да здравствует Двадцатый!
Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду, и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пестрого шута, начинал вопить:
– Да здравствует Двадцатый!
Смеялись. А к вечеру – сумрачные лица и подозрительность во взорах; как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый народ? Во дворце темно; огромные окна блестят фальшиво и смотрят мрачно: там задумывают что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил своим прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызвать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.
– Да здравствует Двадцатый!
Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, поднятые кверху; торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом блистают огромные окна.
– Да здравствует Двадцатый!
Смятый часовой колышется в толпе; он потерял ружье и улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на железных дверях; на высоких железных прутьях ограды выросли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протянутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несется груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и придвинулись к толпе. Что-то заползало по стенам и уходит на крышу. Замок молчит. Решетка вся обросла людьми, и вдруг исчезла, и стало ровно – народ движется.
– Да здравствует Двадцатый!
За окнами забегали бледные огни. Чье-то уродливое лицо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни растут, множатся, движутся взад и вперед, – похоже на странную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяются, – и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет, но лица темны, и может быть, это не они.
– Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!
Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере выступили два багровых колеблющихся лица. Вопли в дальних рядах:
– Это не они! Король бежал!
Но ближайшие уже кричат с радостью минувшего испуга:
– Да здравствует Двадцатый!
Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то озаряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тенях; это они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадцатый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те загадочные существа, у которых так много непонятной, почти божеской власти, и за ними в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие, страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий голос; когда он молчит и кланяется своим огненным лицом, на него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней дьявола.
– Говори, Двадцатый! Говори!
Странный жест рукою, призывающий к молчанию, – странный, повелительный жест, такой древний, как сама власть; и тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древние, странные слова:
– Я рад видеть мой добрый народ.
И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад. Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя, Двадцатый, люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова придем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.
– Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да здравствует господин!
– Рабы!
Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обратно движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, наливаются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, облака. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть бы он закричал от испуга или от боли.
Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном топоте ног, полные темных воспоминаний, предчувствий и ужаса. И всю ночь реют над городом страшные сны.
III
Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе, когда верный сын родины узнал его под личиною грязного слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображением того, – и зазвонили тревожно колокола, и дома выбросили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне, огромной черной башне, у которой толстые стены и маленькие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступные подкупу, лести и очарованию. Чтобы не было страшно, стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они толстыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, озираясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный смех он превращает в раболепные слезы; сквозь толстые стены он сеет измену и предательство, и черными цветами они всходят в народе, пятная золотой покров свободы, как шкуру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам, сползши со своих тронов, сбираются такие же могущественные владыки и приводят орды диких, одураченных людей, матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В домах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в гордых чертогах народного собрания – всюду шипит измена и черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему изменили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерзкий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные чьего-то золота.
Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двенадцати часам дня все находились в своих жилищах; и когда в назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гулко покатились по опустевшим, безмолвным улицам. С тех пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлюдие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного конца ее до другого – ни одного прохожего, ни одного экипажа. Скользят у молчаливых, стен встревоженные, изумленные кошки: они не понимают – день это или ночь; и так тихо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль улиц, как невидимые черные метлы, и точно выметают город. Скрылись и кошки, испуганные чем-то. Безлюдие, тишина.
И на всех улицах показываются одновременно небольшие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от них больше идет беспокойного шума, чем производит его весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и экипажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова выбрасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух бледных от злости или красных от гнева людей. Они идут, презрительно заложив руки в карманы, – в эти странные дни никто не боялся смерти, даже изменники, – и пропадают в черной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть: так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предательства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.
И в этот вечер было в городе ликование. Опустели снова дома, и снова наполнились улицы, и черная безграничная толпа закопошилась в странном, одуряющем танце, сплетении резких и неожиданных движений. Танцевали с одного конца города до другого. У редких фонарей, как пенистый прибой у скалы, светлелись отдельные всплески, переплетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза – все кружащееся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремительно, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то повешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти до тюрьмы. Его вытянутых ног, жадно стремящихся к земле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий танцами.
Потом ходили к черной башне и, задрав головы, кричали в толстые стены:
– Смерть Двадцатому! Смерть!
В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны народа сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы напугать:
– Смерть Двадцатому!
И уходили, давая место новым крикунам. А ночью снова реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и не исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни и тюрьмы, распертые изменою и предательством.
И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и кос; набрали толстых поленьев и тяжелых камней и двое суток работали в тюрьмах, изнемогая от усталости. Тут же и спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не принимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь тысяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, чтобы очистить город и дать жизнь молодой свободе.
Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отрубленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на них. А в народном собрании царили смятение и ужас: искали приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то приказал. Не ты? Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать там, где властью пользуется одно лишь народное собрание? Некоторые улыбаются – они что-то знают.
– Убийцы!
– Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.
Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и забирается в самое сердце народа. Столько принято страданий, столько пролито крови – и все напрасно! Сквозь толстые стены он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и очарование. Горе свободе! С запада приходят страшные вести о страшных раздорах – о битвах, об отколовшейся части безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою, свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все ближе подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны дыханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с севера или с юга, с запада или востока, – он приносит ропот угроз и гнева, и радостью отдается в ухе того, кто заключен в башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе народу! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чудовищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой грудой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на минуту прорваться сквозь тучи, – и какой это был печальный, и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул большими, яркими и страшными глазами – потемнел, растаял, угас, и точно горный взъерошенный хребет опрокинулась туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе народу! Горе свободе!
А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между рычажками и канатами, и, склонив голову набок, смотрит на движение огромного маятника.
– Так было – так будет. Так было – так будет.
Однажды, когда он был еще молод, часы испортились и остановились на целых двое суток. И это было так страшно: как будто все время сразу начало падать куда-то, всею своею незримою массою. А когда часы поправили, стало опять хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по капельке, режется на маленькие кусочки, отпадает по вершочку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движении, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь воркует где-то на карнизе.
– Так было – так будет. Так было – так будет.