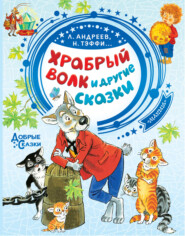По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Екатерина Ивановна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фомин. Я этого не понимаю. Почему же чувство стыда? – не всегда хорошо убить человека. И, как я слыхал, многие самоубийцы, оставшиеся в живых, потом благодарили судьбу за то, что плохо стреляли.
Георгий Дмитриевич. Да? И я этого не понимаю. Но стыд есть, есть, коллега, стыд, это факт.
Фомин. А может быть, и совсем не надо стрелять?
Георгий Дмитриевич. А зачем же тогда делают револьверы?
Оба смеются.
Фомин. Вы это в Думе скажите, Георгий Дмитриевич.
Входит Алексей.
Алексей. Я маму уложил, она едва на ногах держится. Обещал ей беречь и охранять тебя, Горя. Только ты уж постарайся оправдать доверие.
Георгий Дмитриевич. Уехали?
Алексей. Да.
Георгий Дмитриевич. И в детской пусто?
Алексей. Ну, а как же быть, конечно, пусто… Так вот, Фомин, на лыжах, значит, послезавтра…
Георгий Дмитриевич. Пусто? Что это значит, Алексей: в детских пусто?
Алексей. Ну, оставь, Горя.
Георгий Дмитриевич. Что это значит, Алексей? Я хочу пойти посмотреть, что это значит.
Алексей. Горя!
Георгий Дмитриевич. Пусти, тебе говорю. Руки прочь! – как ты смеешь мешать. И что это вы, господа, воображаете, кто вам дал право здесь распоряжаться? Этот дом мой, слышишь? И детские пустые – мои, и вот это пустое (бьет себя в грудь) – мое. А, мама! Ты это откуда? Что это ты тащишь? Смотрите, она что-то тащит.
Вера Игнатьевна несет постельные принадлежности.
Вера Игнатьевна. Я и забыла, Горюшка, постель тебе в кабинете приготовить.
Георгий Дмитриевич. В кабинете?
Вера Игнатьевна. Ложусь, а тут вдруг вспомнила… а как же постель-то? Саша-то с Екатериной Ивановной поехала, одна, говорит, боится ехать… (Проходит в кабинет.)
Алексей. Хочешь, я с тобою лягу, Горя?
Георгий Дмитриевич. Нет, не хочу. А где дети? Вы, коллега, напрасно смотрите на меня такими безумными глазами, глазами испуганной газели, – я шучу: я прекрасно знаю, что дети уехали, и слышал звонок.
В передней звонок.
И меня только удивляет братец мой, Алексей Дмитрич, спортсмен: он никак не может понять, что это значит, когда в детских пусто. Он никак не может понять, что это значит, когда в спальне пусто, когда в доме пусто, когда в мире…
Алексей (шепотом). Пойдите откройте, Фомин.
Фомин уходит.
Георгий Дмитриевич. Прошу не шептаться! Я тебе говорю, Алексей: ты, кажется, забыл, что ты мой брат.
Алексей. Помню, Горя, помню.
Георгий Дмитриевич. А если помнишь, Алексей… А если помнишь, то убей ты меня, Алеша, – ты не промахнешься, как я: три раза стрелял и разбил только тарелку (смеется). Понимаешь, как это остроумно, и ведь это же символ: только тарелку.
Входит Коромыслов, и за ним Фомин.
Коромыслов. Здравствуй, Георгий.
Георгий Дмитриевич. Здравствуй, Павел. Приехал?
Коромыслов. Приехал. Ты это что?
Георгий Дмитриевич. Тарелки бил.
Коромыслов. Тарелки бьешь, а коньяк у вас есть? Нету? Чего ж ты мне не сказал, Алексей, я б привез. А вино какое? – нет, это не годится. Что, брат, раскис? (Целует Георгия Дмитриевича в лоб.) Ого, а лоб-то у тебя горячий.
Георгий Дмитриевич. Паша! Я… (Всхлипывает и целует руку у Коромыслова).
Коромыслов. Так. Нехорошо тебе, Горя?
Георгий Дмитриевич. Я хочу… Я хочу поцеловать человеческую руку. Ведь есть еще люди, Павел?
Коромыслов. Есть, Горя, есть. Екатерина Ивановна уехала?
Алексей. Да, уехала. И детей увезла.
Георгий Дмитриевич. Он не пускает меня в детскую. Я хочу видеть пустую детскую…
Коромыслов. Твой брат строгий, я его знаю. Ну, а я пущу тебя, куда хочешь, и даже сам с тобою пойду. Значит, в доме пусто и можно скандалить, сколько угодно – это хорошо. Я люблю, когда в доме пусто… Ах, это вы, Вера Игнатьевна. Здравствуйте! Как же это у вас коньяку нет, Вера Игнатьевна! Живете полным домом, а коньяку нет! (Отходит с нею, что-то тихо ей говоря.)
Алексей. Тебе холодно, брат?
Георгий Дмитриевич. Нет. Павел, куда ты ушел? Павел!
Коромыслов. Я здесь. Вот что, милый друг: деньги у тебя есть? – у меня ничего.
Георгий Дмитриевич. Это есть.
Коромыслов. Ну и прекрасно. Значит, сейчас едем. И вы, коллеги, с нами.
Алексей. Куда?
Коромыслов. Туда, где светло, где пьяно и просторно. Разве сейчас можно оставаться в таком доме!