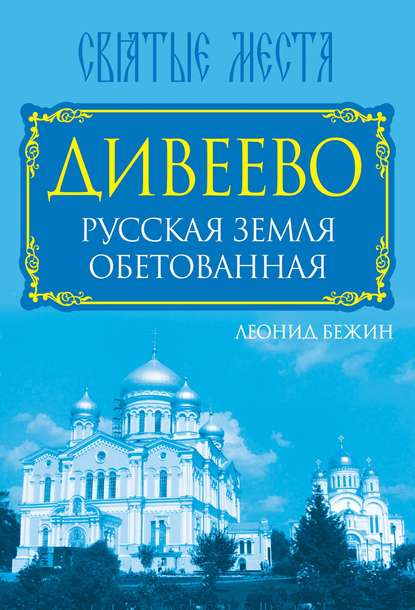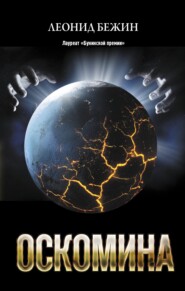По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дивеево. Русская земля обетованная
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А раз так, то долго ему не протянуть. Как ни горестно это признать, не жилец он на свете.
И едва только освятили нижний, Сергиев храм, Исидор Иванович и отошел ко Господу. Отпели его неподалеку, в Ильинской церкви, усердным прихожанином которой он был. Агафья Фотиевна поцеловала покойного в лоб, дети, утирая слезы, бросили на крышку гроба по горсти сырой, с ниточками травяных корешков земли. И похоронили Исидора Ивановича на церковном кладбище, под раскидистым, узловатым дубом, рядом с осевшими могилами предков. Поставили крест деревянный и высекли на мраморной плите его имя, дату рождения и смерти: сорок три года всего и пожил-то, даже чуб не успел поседеть.
Что ж, нового подрядчика теперь искать для храма? Нет, Агафья Фотиевна не позволит отдать дело в чужие руки. Сама завершит, как мужем завещано, перед смертью наказано. Да и не одна она: Феодосия Наумовна иногда чего мудрого подскажет, вразумит, да и дети помогут. Старшей Параскеве уже шестнадцать, девица разумная, хваткая, расторопная, все в руках горит. Сыночки же хотя и малы еще (младшему-то Прохору всего восемь), но тоже в помощники просятся, рвутся, поручений ждут. Поэтому на семейном совете так и решили: справятся, начатое не бросят, доведут до конца. А где самим силенок не хватит, там Царица Небесная поможет, заступится, подсобит…
В Прохоре угадывался некий особый дар, что-то нездешнее осеняло его…
– Ну что, одолеем? Как думаете? – Агафья Фотиевна обводит взглядом всех сидящих за столом и не смотрит лить на Феодосию Наумовну, словно ей этого вопроса можно не задавать: ответ и так известен.
Но дети не решаются ничего сказать, пока не заговорит бабушка.
– Что ж молчите? Носы повесили? Одолеем или нет?
– Должны… – произносит Параскева, но глаз не поднимает, словно отвечает за всех, а сама выделяться не хочет.
– А ты, Алексей?
– Справимся. – Он по-отцовски сдвигает к переносице брови.
– А ты, Прохор? Помогать будешь? – спрашивает Агафья Фотиевна и с такой любовью, нежностью и затаенной надеждой смотрит на сына, словно главное для нее, чтобы он просто был рядом с нею, и не нужно ей никакого ответа.
И все потекло, как при жизни Исидора Ивановича, словно он тут был, рядом. И голос его слышался, как будто он, живой, по-прежнему всем распоряжался. Агафье Фотиевне оставалось иногда лишь молча на что-то указать, поправить, поторопить или, наоборот, осадить самых ретивых и нетерпеливых, чтоб не зарывались, слишком не гнали, а так все катилось по проложенной колее. И, конечно, Царица Небесная им благоволила, Свой незримый покров над ними простирала. Да, над ними всеми, и особенно – над маленьким Прохором, словно чем-то он Ей угодил, Ее ублажил, к себе расположил.
Чем именно – гадать не приходилось. Другие дети на церковной службе утомляются, скучают, куксятся, думают о брошенных играх и обещанных сладостях, Прохора же она никогда не тянула за руку в храм. Он сам в радостном нетерпении бежал впереди да ее торопил, оглядывался: «Скорее!» И ведь не на фокусников и скоморохов спешил, а боялся, что обедню пропустит, что начнут без него, а такого перенести не мог. Неутолимая жажда влекла его в храм – он словно пил, по жаре припав к лесному роднику, и не мог напиться. Все службы выстаивал неподвижно, не переминаясь с ноги на ногу и не глядя по сторонам. Весь был погружен в молитву – до самозабвения.
Откуда в нем это? Конечно, семья у них набожная, благочестивая, и ему многое передалось – и от бабушки, и от отца, и от матери. Да и сестра Параскева с детских лет его вразумляла, о божественном, о церковном с ним толковала. Но только воспитанием, благотворным влиянием старших всего не объяснить. В Прохоре угадывается некий особый дар, что-то нездешнее осеняет его, и словно лучик небесный на него падает. Лучик, похожий на тот, что первым проскальзывает между грузных и рыхлых, с желтизною по краям туч после долгого осеннего ненастья, когда их медленно оттягивает ветром за горизонт. Хорошо тогда из-под козырька ладони озирать с холма окутанную мглистым туманом равнину и светлеющее небо.
А дом Машинных – на холме, и Прохор любит подолгу, словно зачарованный смотреть вдаль… И падает на него лучик. Падает и будто указует: этому назначено себя не пожалеть, Всевышнему послужить. А раз назначено – послужит.
Глава пятая. Детство Прохора в Курске: взгляд историка
Итак, мы набросали картину первых лет жизни преподобного Серафима, когда он еще был Прохором, младшим сыном курского купца Исидора Ивановича и его жены Агафьи Фотиевны Машинных. Набросали так, как представилось, как подсказало воображение, стараясь, чтобы картина получилась по возможности выпуклой, живой и цельной, с подробностями и деталями, отчасти выдуманными, отчасти заимствованными из исторических источников. Иными словами, позволили себе немного побыть романистом. Для чего, собственно (этот вопрос, наверное, стоит себе задать)?
Попробуем рассудить таким образом: была большая семья Машинных, мать, отец, бабушка, трое детей. Были радости, горести, размолвки, ссоры, примирения. Были запальчивые споры, задушевные беседы, горячие исповеди. Было то, что и называется жизнью в ее медленном, плавном течении или бурливых всплесках, порожистых перекатах по плоским, замшелым, изумрудно-зеленым камням. И что же, все это бесследно исчезло? Кануло в небытие? Да, все – кроме нескольких точно установленных фактов и дат? Нет, этого позволить нельзя, надо сохранить, сберечь, но как? Проверенным, не нами придуманным способом.
Материя жизни со всеми ее запахами, ароматами, дурманом цветущих трав, парной влажностью от недавно отшумевшего теплого ливня, корешками, паутинками, дождевыми червями, гнездами каких-то личинок в комьях земли и сохраняется под пером романиста. Только ему доступно воссоздать сам воздух, которым дышали люди далекой эпохи, свивающийся кольцами табачный дымок, скрип половиц, чей-то кашель, возгласы, шушуканье, смех. Воссоздать если и не везде так, как было, то, во всяком случае, так, как могло бы быть. И это тоже метод. Метод постижения истории в ее бытийственной полноте и целостности. Мы не отрубаем от нее отросток, а пересаживаем с корнями и почвой на этих корнях, не усохшую, а живую и цветущую.
Вот мы и попытались пересадить, тем более что последняя тайна души преподобного Серафима в ее молитвенной устремленности к Богу, наитие Святого Духа, близость ангелов, сладость видений небесных и дивный вкус ниспосылаемой ему райской пищи, которой он угощал окружающих, нам, грешным, увы, недоступны. А воссоздать обстановку, окружение, в котором воспитывался, а затем проходил свои первые послушания Прохор, рельефно выписать главные фигуры, найти штришок для второстепенных, слегка наметить фон – задача решаемая…
Теперь же прокомментируем и обобщим сказанное так, как это сделал бы уже не романист, а историк, для которого самое главное – именно даты и факты, взятые сами по себе. И хотя он тоже не чужд писательства, порою не прочь блеснуть красотой слога и живостью изложения, набросать сценку с диалогом, все же воображению воли не дает, в узде его держит. Вот и мы постараемся не слишком увлекаться, чтобы прихоти воображения далеко нас не увели…
Прежде всего, когда родился преподобный Серафим? Обсуждаются три даты его рождения: 1759-й, 1758-й и 1754-й годы. Первая из них, повсеместно встречавшаяся ранее (любая книга о преподобном с нее начиналась), ныне признается ошибочной, и с этим нельзя не согласиться. После праведной кончины великого старца сменилось поколение тех, кто ведал монастырской документацией, справлял бумаги, что называется. Новые же стряпчие монахи что-то спутали, упустили, недоглядели – вот и вкралась описка, ее вовремя не выловили, она превратилась в ошибку, и та пошла гулять по страницам составляемых ими реляций, прошений и отчетов.
Ну, а какая же из оставшихся дат верна? Судя по архивным данным, обнаруженным краеведом Валентином Степашкиным, – 1754 год (недаром 250-летие со дня рождения праздновалось в 2004-м году). Собственно, на этой дате настаивал еще митрополит Вениамин (Федченков), в начале тридцатых годов написавший книгу о преподобном Серафиме. Исповедные записи Ильинской церкви, к которой были приписаны Машнины, подсказали ему верную дату – вот из нее-то мы и исходим.
Да, Прохор Исидорович Машнин, будущий преподобный Серафим (а если с курским выговором – Серахвим) родился в 1754-м. Фамилию носил истинно купеческую, хотя уже Исидор Иванович писал себя не как Мошнина, а как Машнина, стараясь избежать навязчивого родства с набитой деньгами мошной, чтобы не по мошне о нем судили, а по душе: в ней истинное богатство. Тугая мошна же на Руси – не особая доблесть: это пусть иноземец мошной трясет. А Исидору Ивановичу тем более неудобно потому, что он богоугодным делом занимался, златоглавые храмы возводил – вот и подправил фамилию, чтобы мошна сквозь нее не шибко просвечивала.
Эту же фамилию и детям передал, хотя иной раз по привычке называли себя и Мошниными. Купцы же все-таки. Мошна она и есть мошна – чего ж стыдиться, если деньги в ней не мошенничеством (слово от того же корня), а честной торговлей нажиты! Жена же Исидора Ивановича в недавно обнаруженной Ревизской сказке так о себе написала: «Агафья, Фатеева дочь, старинного курского посадского Фатея Завозгряева дочь». Фамилия редкая, простая, но и с неким изыском: раз произнесешь, а затем повторишь, прислушаешься. Завозгряева!
Курск. У входа в Ильинскую церковь, где крестили Прохора Машнина
Таким образом, к 1762 году, когда умер отец Прохора Машнина, ему было восемь лет. Еще босоногим по двору бегал, пескарей удил, с плетеной корзиной ходил за грибами, горстями распихивал по карманам сорванные шишки лесных орехов. Так, что ли? Нет, хотя иные биографы любят подчеркнуть, что в детстве их выдающиеся герои ничем не отличались от своих сверстников. Прохор отличался. Он был из тех русских мальчиков, которых воспитывала церковь, а это особый тип, ныне почти исчезнувший. Наверное, и не найдешь сейчас таких русских мальчиков, а тогда – были. И Прохор – из их числа. Это не значит, что он полностью чужд детских игр и забав – нет, Прохора влекут и пескари, и грибы, и орехи, но не это определяет его душевный склад, характер и облик. Вот как возводят храм Машнины, так и строит себя Прохор – растет вместе с храмом, уподобляет себя ему, и его собственный храм – внутренний. И время его жизни – церковное, от сурового поста к празднику, от светлого Рождества к ликующей Пасхе, от Пасхи к Рождеству. И, как уже говорилось, лучик небесный осеняет его, когда с высокого холма он смотрит в даль, повитую синеватым степным туманом…
Дом Машинных, как и все купеческие дома, был большой, с хозяйскими службами, кладовыми и погребом, уставленными бочками, чанами и кувшинами, пропахшей навозом и лошадиным потом конюшней и скотным двором, аккуратно вскопанными, выполотыми, разбитыми на грядки огородами, пчельником и садом. Конечно же, с садом, куда уводила от заднего крыльца дорожка и где осенью со стуком падали на землю антоновские яблоки (отяжелевшие ветки подпирали рогатинами), вызревал до золотистой желтизны крыжовник, краснела малина, тянулись кусты черной и белой смородины.
И наверняка под сенью ветвей стоял дощатый столик, куда летними вечерами выносили самовар с высокой трубой и пили чай, по-купечески наливая из чашки в блюдце, усердно дуя, чтобы остудить, и отпивая маленькими глоточками.
– Матушка Феодосия Наумовна, вам покрепче?
– Мне, как Исидору. Мы с ним одинаковый пьем.
– А пряник медовый желаете? Сегодня куплены.
– Ну, давай, раз сегодня. Подсластимся.
Наверняка, наверняка…
Глава шестая. Незримые покровители
Как выглядел уездный город Курск того времени, раскинувшийся на крутом берегу реки Тускари? Ничего заранее спланированного, европейского, просторных проспектов да и, собственно, улиц в нынешнем смысле там не было. Вернее, была одна, называвшаяся Московской, мощенная булыжником, широкая, по ней с ветерком, заливающимся под дугой бубенчиком и прокатиться не худо – ну, если не улица, так дорога. Московская дорога – так она и называлась и шла прямо от Красной площади (раз Московская, то и площадь Красная). Остальные же – слободки, разделенные лугами с копенками сена, огородами с белеющей на грядках капустой, подернутыми ряской болотцами (головы лягушек торчат) и маленькими озерами, на берегах которых дымили кирпичные заводы, из кузниц доносился дробный лязг молотков и вылетали искры от раздуваемого горном пламени. Кому подкову прибить, кому лемех для плуга выковать: заказы не переводились…
Слободки же камнем не мостили. Поэтому как зарядят дожди, так и не пройдешь – сплошные лужи да грязь, жирная, пахучая, сочно чавкающая под ногами, непролазная.
Дома в слободах низенькие, большей частью деревянные (каменные стали строить после пожара 1781 года), одноэтажные или двухэтажные, и возвышаются над ними златоглавые церкви с колокольнями, истинная отрада для глаз, центры тамошней жизни. К ним-то слободские жители по любой грязи и распутице проберутся, поскольку там и крестят, и венчают, и отпевают, и исповедуют, и Святых Тайн причащают. И невесту себе там же присмотришь – вон у иконостаса в белом платке, на лоб надвинутом, со свечой, потупив взор, стоит. И о новостях узнаешь, и о выгодной сделке сговоришься:
– А не уступишь ли, кум, лесу?
– Как не уступить! Уступим! Сколько надо-ть?
– А хоть тот мысок, что к реке спускается.
– Бери.
Таких приходских церквей в Курске шестнадцать. В том числе – и Ильинская, где молились Машнины, а кроме нее Никольская на Торгу, Фроловская, Преображенская и прочие. Есть и монастыри: мужской в честь Коренной иконы «Знамения» Божией Матери (выходил на Красную площадь), а к северо-востоку от него на крутом берегу реки Тускари – женский Троицкий (Прохор в них, конечно, бывал).
Жителей в Курске не так уж много – тысяч восемь, небольшой народец: если не в лицо, то понаслышке друг о друге знали. Все потомки посадских, стрельцов, удалых казаков, пушкарей, лихих ямщиков и степенного духовенства, когда-то поселившихся в городе. По сословиям делятся так: половина – купцы и мещане, затем идут однодворцы (ремесленники и огородники), служилые разных категорий, немного крестьян, а уж дворянского звания совсем мало, не более трехсот. И не скажешь, что живут на широкую ногу, сорят деньгами, дают балы и проматывают состояния. Нет, дворянскую усадьбу подчас и не отличишь от купеческого дома – даже не богатого, а со средним достатком, и быт в ней самый скромный, утесненность, запущенность, бедноватая обстановка и скудная трапеза.
Словом, как на картине, – завтрак аристократа…
Где купцы, там и торговля. Вот ею-то жители в основном и промышляют, по лавкам сидят, подперев кулаком подбородок покупателей ждут, зевают и мух считают (со счета сбившись, начинают сызнова). Но есть и купцы с размахом – такие, что и до самого Китая доберутся со своим товаром, а уж Европа, Сибирь, Нижний Новгород, Киев, Петербург и Москва для них – обжитые вотчины. В 1780-х годах, когда Прохора Машнина уже не было в Курске, знаменитый курский гражданин, винный откупщик Иван Илларионович Голиков вместе со своим родственником Григорием Ивановичем Шелиховым добрался до Охотска и основал там первую в России промышленную компанию на паях. Стал осваивать, прибирать к рукам Аляску и Северную Калифорнию, создавать там русские поселения, избы рубить и крепких мужичков-добытчиков сажать.
По купеческому разряду числятся те, кто имеют капитала 500 рублей и выше; если ниже – запишут в мещане. Значит, у Исидора Ивановича капиталец был, деньги в мошне водились. Правда, архивистами предпринималась попытка оспорить принадлежность Машинных к купечеству, но в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым о целях христианской жизни преподобный Серафим о себе молвил: «Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает». Сказано совершенно ясно и определенно, и это признание самого преподобного гораздо достовернее любых архивных свидетельств, допускающих самые разные истолкования, подчас спорных и противоречивых.
Сергиево-Казанский собор и поныне краса и гордость Курска, с восьмискатным куполом, синяя глава, усыпанная золотыми звездами, на четырехсветном фонаре. Словом, такой, каким мы его и описали в предыдущих главах: залюбуешься, глаз не оторвешь. Дом же Машинных – это доподлинно известно – находился рядом, на Сергиевой улице (улицы появились при позднейшей перепланировке), но Сергиевых-то было три, вот и возникает вопрос, с какой стороны дом примыкал к храму. Усилиями краеведов место это, кажется, обнаружено: «… двор Машинных северо-западным углом упирался в грань юго-восточного угла ограды собора. Теперь это двор дома № 13 по улице Жданова. Здесь родился преподобный Серафим, здесь и жил двадцать лет до ухода в Саровскую обитель». Так пишут протоиерей Лев Лебедев и Н. Ларин в очерке «Загадка одного портрета». Если они правы, можно вздохнуть с облечением: найдено…найдено место, осененное присутствием преподобного Серафима. «Здесь родился… и жил двадцать лет». Авторы очерка исходят из даты рождения – 1758 год, по нашему же получается, что не двадцать, а двадцать четыре года.
Двадцать четыре года на этом месте, место соединено со временем. Ах, как это волнует, трогает, будоражит, сколько вызывает самых разных мыслей, непередаваемых ощущений!..
И Сергиево-Казанский собор он видел таким, каким его сейчас видим мы, поскольку дождался до завершения строительства и только потом ушел в Саров. И дали с холма ему открывались те же: «С высоты большого холма, на склоне которого стоял отчий дом преподобного, и сейчас открываются прекрасные дали. Равнины, напоминающие безбрежный морской простор, где-то на востоке переходят в степь, простирающуюся до Монголии. Этот холм, огражденный в древности крепостной стеной, в XVII веке не раз встречал войска поляков и крымских татар (последний набег был в июле 1709 года), однако никто не смог захватить Курск. Здесь граница коренной Руси, один из ее боевых форпостов…»
И едва только освятили нижний, Сергиев храм, Исидор Иванович и отошел ко Господу. Отпели его неподалеку, в Ильинской церкви, усердным прихожанином которой он был. Агафья Фотиевна поцеловала покойного в лоб, дети, утирая слезы, бросили на крышку гроба по горсти сырой, с ниточками травяных корешков земли. И похоронили Исидора Ивановича на церковном кладбище, под раскидистым, узловатым дубом, рядом с осевшими могилами предков. Поставили крест деревянный и высекли на мраморной плите его имя, дату рождения и смерти: сорок три года всего и пожил-то, даже чуб не успел поседеть.
Что ж, нового подрядчика теперь искать для храма? Нет, Агафья Фотиевна не позволит отдать дело в чужие руки. Сама завершит, как мужем завещано, перед смертью наказано. Да и не одна она: Феодосия Наумовна иногда чего мудрого подскажет, вразумит, да и дети помогут. Старшей Параскеве уже шестнадцать, девица разумная, хваткая, расторопная, все в руках горит. Сыночки же хотя и малы еще (младшему-то Прохору всего восемь), но тоже в помощники просятся, рвутся, поручений ждут. Поэтому на семейном совете так и решили: справятся, начатое не бросят, доведут до конца. А где самим силенок не хватит, там Царица Небесная поможет, заступится, подсобит…
В Прохоре угадывался некий особый дар, что-то нездешнее осеняло его…
– Ну что, одолеем? Как думаете? – Агафья Фотиевна обводит взглядом всех сидящих за столом и не смотрит лить на Феодосию Наумовну, словно ей этого вопроса можно не задавать: ответ и так известен.
Но дети не решаются ничего сказать, пока не заговорит бабушка.
– Что ж молчите? Носы повесили? Одолеем или нет?
– Должны… – произносит Параскева, но глаз не поднимает, словно отвечает за всех, а сама выделяться не хочет.
– А ты, Алексей?
– Справимся. – Он по-отцовски сдвигает к переносице брови.
– А ты, Прохор? Помогать будешь? – спрашивает Агафья Фотиевна и с такой любовью, нежностью и затаенной надеждой смотрит на сына, словно главное для нее, чтобы он просто был рядом с нею, и не нужно ей никакого ответа.
И все потекло, как при жизни Исидора Ивановича, словно он тут был, рядом. И голос его слышался, как будто он, живой, по-прежнему всем распоряжался. Агафье Фотиевне оставалось иногда лишь молча на что-то указать, поправить, поторопить или, наоборот, осадить самых ретивых и нетерпеливых, чтоб не зарывались, слишком не гнали, а так все катилось по проложенной колее. И, конечно, Царица Небесная им благоволила, Свой незримый покров над ними простирала. Да, над ними всеми, и особенно – над маленьким Прохором, словно чем-то он Ей угодил, Ее ублажил, к себе расположил.
Чем именно – гадать не приходилось. Другие дети на церковной службе утомляются, скучают, куксятся, думают о брошенных играх и обещанных сладостях, Прохора же она никогда не тянула за руку в храм. Он сам в радостном нетерпении бежал впереди да ее торопил, оглядывался: «Скорее!» И ведь не на фокусников и скоморохов спешил, а боялся, что обедню пропустит, что начнут без него, а такого перенести не мог. Неутолимая жажда влекла его в храм – он словно пил, по жаре припав к лесному роднику, и не мог напиться. Все службы выстаивал неподвижно, не переминаясь с ноги на ногу и не глядя по сторонам. Весь был погружен в молитву – до самозабвения.
Откуда в нем это? Конечно, семья у них набожная, благочестивая, и ему многое передалось – и от бабушки, и от отца, и от матери. Да и сестра Параскева с детских лет его вразумляла, о божественном, о церковном с ним толковала. Но только воспитанием, благотворным влиянием старших всего не объяснить. В Прохоре угадывается некий особый дар, что-то нездешнее осеняет его, и словно лучик небесный на него падает. Лучик, похожий на тот, что первым проскальзывает между грузных и рыхлых, с желтизною по краям туч после долгого осеннего ненастья, когда их медленно оттягивает ветром за горизонт. Хорошо тогда из-под козырька ладони озирать с холма окутанную мглистым туманом равнину и светлеющее небо.
А дом Машинных – на холме, и Прохор любит подолгу, словно зачарованный смотреть вдаль… И падает на него лучик. Падает и будто указует: этому назначено себя не пожалеть, Всевышнему послужить. А раз назначено – послужит.
Глава пятая. Детство Прохора в Курске: взгляд историка
Итак, мы набросали картину первых лет жизни преподобного Серафима, когда он еще был Прохором, младшим сыном курского купца Исидора Ивановича и его жены Агафьи Фотиевны Машинных. Набросали так, как представилось, как подсказало воображение, стараясь, чтобы картина получилась по возможности выпуклой, живой и цельной, с подробностями и деталями, отчасти выдуманными, отчасти заимствованными из исторических источников. Иными словами, позволили себе немного побыть романистом. Для чего, собственно (этот вопрос, наверное, стоит себе задать)?
Попробуем рассудить таким образом: была большая семья Машинных, мать, отец, бабушка, трое детей. Были радости, горести, размолвки, ссоры, примирения. Были запальчивые споры, задушевные беседы, горячие исповеди. Было то, что и называется жизнью в ее медленном, плавном течении или бурливых всплесках, порожистых перекатах по плоским, замшелым, изумрудно-зеленым камням. И что же, все это бесследно исчезло? Кануло в небытие? Да, все – кроме нескольких точно установленных фактов и дат? Нет, этого позволить нельзя, надо сохранить, сберечь, но как? Проверенным, не нами придуманным способом.
Материя жизни со всеми ее запахами, ароматами, дурманом цветущих трав, парной влажностью от недавно отшумевшего теплого ливня, корешками, паутинками, дождевыми червями, гнездами каких-то личинок в комьях земли и сохраняется под пером романиста. Только ему доступно воссоздать сам воздух, которым дышали люди далекой эпохи, свивающийся кольцами табачный дымок, скрип половиц, чей-то кашель, возгласы, шушуканье, смех. Воссоздать если и не везде так, как было, то, во всяком случае, так, как могло бы быть. И это тоже метод. Метод постижения истории в ее бытийственной полноте и целостности. Мы не отрубаем от нее отросток, а пересаживаем с корнями и почвой на этих корнях, не усохшую, а живую и цветущую.
Вот мы и попытались пересадить, тем более что последняя тайна души преподобного Серафима в ее молитвенной устремленности к Богу, наитие Святого Духа, близость ангелов, сладость видений небесных и дивный вкус ниспосылаемой ему райской пищи, которой он угощал окружающих, нам, грешным, увы, недоступны. А воссоздать обстановку, окружение, в котором воспитывался, а затем проходил свои первые послушания Прохор, рельефно выписать главные фигуры, найти штришок для второстепенных, слегка наметить фон – задача решаемая…
Теперь же прокомментируем и обобщим сказанное так, как это сделал бы уже не романист, а историк, для которого самое главное – именно даты и факты, взятые сами по себе. И хотя он тоже не чужд писательства, порою не прочь блеснуть красотой слога и живостью изложения, набросать сценку с диалогом, все же воображению воли не дает, в узде его держит. Вот и мы постараемся не слишком увлекаться, чтобы прихоти воображения далеко нас не увели…
Прежде всего, когда родился преподобный Серафим? Обсуждаются три даты его рождения: 1759-й, 1758-й и 1754-й годы. Первая из них, повсеместно встречавшаяся ранее (любая книга о преподобном с нее начиналась), ныне признается ошибочной, и с этим нельзя не согласиться. После праведной кончины великого старца сменилось поколение тех, кто ведал монастырской документацией, справлял бумаги, что называется. Новые же стряпчие монахи что-то спутали, упустили, недоглядели – вот и вкралась описка, ее вовремя не выловили, она превратилась в ошибку, и та пошла гулять по страницам составляемых ими реляций, прошений и отчетов.
Ну, а какая же из оставшихся дат верна? Судя по архивным данным, обнаруженным краеведом Валентином Степашкиным, – 1754 год (недаром 250-летие со дня рождения праздновалось в 2004-м году). Собственно, на этой дате настаивал еще митрополит Вениамин (Федченков), в начале тридцатых годов написавший книгу о преподобном Серафиме. Исповедные записи Ильинской церкви, к которой были приписаны Машнины, подсказали ему верную дату – вот из нее-то мы и исходим.
Да, Прохор Исидорович Машнин, будущий преподобный Серафим (а если с курским выговором – Серахвим) родился в 1754-м. Фамилию носил истинно купеческую, хотя уже Исидор Иванович писал себя не как Мошнина, а как Машнина, стараясь избежать навязчивого родства с набитой деньгами мошной, чтобы не по мошне о нем судили, а по душе: в ней истинное богатство. Тугая мошна же на Руси – не особая доблесть: это пусть иноземец мошной трясет. А Исидору Ивановичу тем более неудобно потому, что он богоугодным делом занимался, златоглавые храмы возводил – вот и подправил фамилию, чтобы мошна сквозь нее не шибко просвечивала.
Эту же фамилию и детям передал, хотя иной раз по привычке называли себя и Мошниными. Купцы же все-таки. Мошна она и есть мошна – чего ж стыдиться, если деньги в ней не мошенничеством (слово от того же корня), а честной торговлей нажиты! Жена же Исидора Ивановича в недавно обнаруженной Ревизской сказке так о себе написала: «Агафья, Фатеева дочь, старинного курского посадского Фатея Завозгряева дочь». Фамилия редкая, простая, но и с неким изыском: раз произнесешь, а затем повторишь, прислушаешься. Завозгряева!
Курск. У входа в Ильинскую церковь, где крестили Прохора Машнина
Таким образом, к 1762 году, когда умер отец Прохора Машнина, ему было восемь лет. Еще босоногим по двору бегал, пескарей удил, с плетеной корзиной ходил за грибами, горстями распихивал по карманам сорванные шишки лесных орехов. Так, что ли? Нет, хотя иные биографы любят подчеркнуть, что в детстве их выдающиеся герои ничем не отличались от своих сверстников. Прохор отличался. Он был из тех русских мальчиков, которых воспитывала церковь, а это особый тип, ныне почти исчезнувший. Наверное, и не найдешь сейчас таких русских мальчиков, а тогда – были. И Прохор – из их числа. Это не значит, что он полностью чужд детских игр и забав – нет, Прохора влекут и пескари, и грибы, и орехи, но не это определяет его душевный склад, характер и облик. Вот как возводят храм Машнины, так и строит себя Прохор – растет вместе с храмом, уподобляет себя ему, и его собственный храм – внутренний. И время его жизни – церковное, от сурового поста к празднику, от светлого Рождества к ликующей Пасхе, от Пасхи к Рождеству. И, как уже говорилось, лучик небесный осеняет его, когда с высокого холма он смотрит в даль, повитую синеватым степным туманом…
Дом Машинных, как и все купеческие дома, был большой, с хозяйскими службами, кладовыми и погребом, уставленными бочками, чанами и кувшинами, пропахшей навозом и лошадиным потом конюшней и скотным двором, аккуратно вскопанными, выполотыми, разбитыми на грядки огородами, пчельником и садом. Конечно же, с садом, куда уводила от заднего крыльца дорожка и где осенью со стуком падали на землю антоновские яблоки (отяжелевшие ветки подпирали рогатинами), вызревал до золотистой желтизны крыжовник, краснела малина, тянулись кусты черной и белой смородины.
И наверняка под сенью ветвей стоял дощатый столик, куда летними вечерами выносили самовар с высокой трубой и пили чай, по-купечески наливая из чашки в блюдце, усердно дуя, чтобы остудить, и отпивая маленькими глоточками.
– Матушка Феодосия Наумовна, вам покрепче?
– Мне, как Исидору. Мы с ним одинаковый пьем.
– А пряник медовый желаете? Сегодня куплены.
– Ну, давай, раз сегодня. Подсластимся.
Наверняка, наверняка…
Глава шестая. Незримые покровители
Как выглядел уездный город Курск того времени, раскинувшийся на крутом берегу реки Тускари? Ничего заранее спланированного, европейского, просторных проспектов да и, собственно, улиц в нынешнем смысле там не было. Вернее, была одна, называвшаяся Московской, мощенная булыжником, широкая, по ней с ветерком, заливающимся под дугой бубенчиком и прокатиться не худо – ну, если не улица, так дорога. Московская дорога – так она и называлась и шла прямо от Красной площади (раз Московская, то и площадь Красная). Остальные же – слободки, разделенные лугами с копенками сена, огородами с белеющей на грядках капустой, подернутыми ряской болотцами (головы лягушек торчат) и маленькими озерами, на берегах которых дымили кирпичные заводы, из кузниц доносился дробный лязг молотков и вылетали искры от раздуваемого горном пламени. Кому подкову прибить, кому лемех для плуга выковать: заказы не переводились…
Слободки же камнем не мостили. Поэтому как зарядят дожди, так и не пройдешь – сплошные лужи да грязь, жирная, пахучая, сочно чавкающая под ногами, непролазная.
Дома в слободах низенькие, большей частью деревянные (каменные стали строить после пожара 1781 года), одноэтажные или двухэтажные, и возвышаются над ними златоглавые церкви с колокольнями, истинная отрада для глаз, центры тамошней жизни. К ним-то слободские жители по любой грязи и распутице проберутся, поскольку там и крестят, и венчают, и отпевают, и исповедуют, и Святых Тайн причащают. И невесту себе там же присмотришь – вон у иконостаса в белом платке, на лоб надвинутом, со свечой, потупив взор, стоит. И о новостях узнаешь, и о выгодной сделке сговоришься:
– А не уступишь ли, кум, лесу?
– Как не уступить! Уступим! Сколько надо-ть?
– А хоть тот мысок, что к реке спускается.
– Бери.
Таких приходских церквей в Курске шестнадцать. В том числе – и Ильинская, где молились Машнины, а кроме нее Никольская на Торгу, Фроловская, Преображенская и прочие. Есть и монастыри: мужской в честь Коренной иконы «Знамения» Божией Матери (выходил на Красную площадь), а к северо-востоку от него на крутом берегу реки Тускари – женский Троицкий (Прохор в них, конечно, бывал).
Жителей в Курске не так уж много – тысяч восемь, небольшой народец: если не в лицо, то понаслышке друг о друге знали. Все потомки посадских, стрельцов, удалых казаков, пушкарей, лихих ямщиков и степенного духовенства, когда-то поселившихся в городе. По сословиям делятся так: половина – купцы и мещане, затем идут однодворцы (ремесленники и огородники), служилые разных категорий, немного крестьян, а уж дворянского звания совсем мало, не более трехсот. И не скажешь, что живут на широкую ногу, сорят деньгами, дают балы и проматывают состояния. Нет, дворянскую усадьбу подчас и не отличишь от купеческого дома – даже не богатого, а со средним достатком, и быт в ней самый скромный, утесненность, запущенность, бедноватая обстановка и скудная трапеза.
Словом, как на картине, – завтрак аристократа…
Где купцы, там и торговля. Вот ею-то жители в основном и промышляют, по лавкам сидят, подперев кулаком подбородок покупателей ждут, зевают и мух считают (со счета сбившись, начинают сызнова). Но есть и купцы с размахом – такие, что и до самого Китая доберутся со своим товаром, а уж Европа, Сибирь, Нижний Новгород, Киев, Петербург и Москва для них – обжитые вотчины. В 1780-х годах, когда Прохора Машнина уже не было в Курске, знаменитый курский гражданин, винный откупщик Иван Илларионович Голиков вместе со своим родственником Григорием Ивановичем Шелиховым добрался до Охотска и основал там первую в России промышленную компанию на паях. Стал осваивать, прибирать к рукам Аляску и Северную Калифорнию, создавать там русские поселения, избы рубить и крепких мужичков-добытчиков сажать.
По купеческому разряду числятся те, кто имеют капитала 500 рублей и выше; если ниже – запишут в мещане. Значит, у Исидора Ивановича капиталец был, деньги в мошне водились. Правда, архивистами предпринималась попытка оспорить принадлежность Машинных к купечеству, но в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым о целях христианской жизни преподобный Серафим о себе молвил: «Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает». Сказано совершенно ясно и определенно, и это признание самого преподобного гораздо достовернее любых архивных свидетельств, допускающих самые разные истолкования, подчас спорных и противоречивых.
Сергиево-Казанский собор и поныне краса и гордость Курска, с восьмискатным куполом, синяя глава, усыпанная золотыми звездами, на четырехсветном фонаре. Словом, такой, каким мы его и описали в предыдущих главах: залюбуешься, глаз не оторвешь. Дом же Машинных – это доподлинно известно – находился рядом, на Сергиевой улице (улицы появились при позднейшей перепланировке), но Сергиевых-то было три, вот и возникает вопрос, с какой стороны дом примыкал к храму. Усилиями краеведов место это, кажется, обнаружено: «… двор Машинных северо-западным углом упирался в грань юго-восточного угла ограды собора. Теперь это двор дома № 13 по улице Жданова. Здесь родился преподобный Серафим, здесь и жил двадцать лет до ухода в Саровскую обитель». Так пишут протоиерей Лев Лебедев и Н. Ларин в очерке «Загадка одного портрета». Если они правы, можно вздохнуть с облечением: найдено…найдено место, осененное присутствием преподобного Серафима. «Здесь родился… и жил двадцать лет». Авторы очерка исходят из даты рождения – 1758 год, по нашему же получается, что не двадцать, а двадцать четыре года.
Двадцать четыре года на этом месте, место соединено со временем. Ах, как это волнует, трогает, будоражит, сколько вызывает самых разных мыслей, непередаваемых ощущений!..
И Сергиево-Казанский собор он видел таким, каким его сейчас видим мы, поскольку дождался до завершения строительства и только потом ушел в Саров. И дали с холма ему открывались те же: «С высоты большого холма, на склоне которого стоял отчий дом преподобного, и сейчас открываются прекрасные дали. Равнины, напоминающие безбрежный морской простор, где-то на востоке переходят в степь, простирающуюся до Монголии. Этот холм, огражденный в древности крепостной стеной, в XVII веке не раз встречал войска поляков и крымских татар (последний набег был в июле 1709 года), однако никто не смог захватить Курск. Здесь граница коренной Руси, один из ее боевых форпостов…»