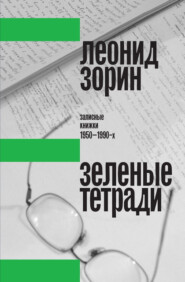По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Римская комедия (Дион)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дион. Лоллия, не пытайтесь казаться такой несокрушимой. Я знаю вас лучше, чем вы себя сами. Вы – беззащитное существо.
Лоллия (ошеломлена). Мой друг, вы все-таки ненормальны.
Дион. Может быть, поэтому я вижу то, чего не видят другие. За вашей деловитостью кроется усталость, за общительностью – одиночество. Вас окружает мир, мечтающий вас проглотить, ведь красота не вызывает здесь иных желаний. Вы беззащитны, Лоллия, и я призван вас защитить.
Лоллия (холодно). Подумайте, как защитить себя, смешной человек. Сдается мне, самое время об этом подумать. (Уходит.)
Дион. Я ее обидел… но чем? (Задумывается.)
Входит Клодий.
Похоже, она меня не любит.
Клодий. Он тебя не любит, это важней.
Дион. Кто?
Клодий. Домициан.
Дион. Неужели и ты считаешь, что любовь господина важнее любви подруги?
Клодий. Чудак, твоя жизнь в опасности. Об этом шушукаются все гости.
Дион. Вот как?
Клодий. Каждая сплетница в городе это знает. Только ты глух и слеп.
Дион. Так ты предупредил меня? Спасибо.
Клодий. Я не понимаю твоей усмешки.
Дион. Ты очень достойный человек, Клодий, ведь у тебя нет желания творить зло. Ты очень честный человек, Клодий, когда тебе не хочется произнести правду – ты молчишь. Ты очень умный человек, Клодий, – ты не станешь биться за безнадежное дело. Ты очень счастливый человек, Клодий, – проживешь сто лет и умрешь с гордо поднятой головой. Спасибо тебе – и прощай.
Клодий. Ты несправедлив, не я тебя предал, а Домициан.
Дион. Домициан не вечен.
Клодий (махнув рукой). Ах, Дион, уходят тираны, а тирании остаются.
Дион. Рухнут и тирании.
Клодий. Ты все еще веришь в это?
Дион. Иначе не стоило бы родиться на свет. А ведь все-таки это великая удача – родиться.
Клодий. Дион, пока не поздно – уйди.
Дион (взорвавшись). Удивительный человек, ему лишь бы уйти! Не видишь ты, что ли, – Рим выжил из ума. Что ни день, все те же бодрящие новости: кого-то судили, кого-то казнили; что ни день – что-нибудь запрещается: сегодня говорить, завтра – думать, послезавтра – дышать. Мало того, к границам двинулись легионы, в любой миг мы можем оказаться «воюющей стороной». Об этом сумасшествии ты уже слышал? С песнями и плясками мы идем в бездну! Словом, отвали, мне нужен Домициан.
Клодий. А ты ему – нет. Он беседует с мошенником Сервилием, за которого ты же хлопотал.
Дион. Гуманнейший, ты меня осуждаешь за это? Я не просил цезаря венчать его новыми лаврами, но у меня есть слабость – терпеть не могу, когда рубят головы.
Клодий. Тогда позаботься о своей. Прощай.
Хочет идти, но в этот миг, сопровождаемый всеми присутствующими, в зал входит Домициан.
Домициан. Ну, милые мои подданные, недаром я вас сегодня собрал. День, безусловно, торжественный, исторический, можно сказать, день. Потому что сейчас, пока мы с вами тут веселимся, наслаждаясь избранным обществом, к легату Саллюстию скачет гонец с приказом обрушиться на сарматов, а заодно и на свевов, естественно во имя достоинства и безопасности Рима. Что говорить, проявили мы немало терпения, однако и терпению приходит конец.
Гости. Слава цезарю!
– Слава воинам!
– Слава тебе, Государь и Бог!
Домициан. Чем вот прекрасны такие часы? А тем, что хоть и не очень как будто люди похожи друг на друга, а тут все различия исчезают, и остается только любовь к отечеству. Большое дело эта любовь, священное, можно сказать, чувство. Взгляните на какого-нибудь простодушного менялу, – немало я их встречал в скромной своей юности, на Гранатовой улице, – что, казалось бы, может его волновать, кроме драхм и сестерциев? А услышит он, например, о победе бодрых наших солдат, и плясать готов добряк от радости, и вина выдувает неимоверное количество, и кричит во всю мочь патриотические речи, – словом, становится другим человеком.
Афраний. Истинно так, цезарь! Золотые слова!..
Домициан. Потому-то войны и необходимы, преданные вы мои… Они напоминают нации, что она – нация, а не сброд. Они молодят общественную кровь, не говоря уж о прямых выгодах, которые несут. Одним словом, с этого часа должны быть едины все мои римляне и мои поэты в том числе. Ведь поэзия – это как-никак голос народа. Так, друзья мои, или не так?
Гости. Все верно, цезарь!
– Лучше не скажешь!
Домициан. Вот среди нас – наш Публий Сервилий, можно сказать, испытанный мастер. Что говорить, люди здесь все свои, есть за ним один грешок, какой – мы знаем… Но ведь он поэт, в нем божественная искра, жалко гасить ее раньше срока. Я и сам в молодые, трудные свои годы писал, как говорят, недурные стихи, и, должен сказать, не такое уж это простое дело. Так вот, проступочек этот мы, конечно, запомним, но все же пусть уж наш Сервилий творит. Так говорю я, широкие вы мои, или не так?
Гости. Так, цезарь!
– Так, золотое сердце!
Полный римлянин. Выше неба твоя доброта!
Домициан. Ну-ка, Сервилий, какие стихи посвятил ты нашим солдатикам?
Сервилий. Государь и Бог! Я посвящу им еще много стихов, а покамест позволь прочесть несколько строк, сложенных тут же, в горячке, по следам событий. Искренность, единственное мое свойство, пусть оправдает несовершенство.
Домициан. Валяй.
Сервилий (читает).
Снова готовится Рим торжество триумфатора видеть,
Снова наш цезарь стремит в бой белогривых коней.
Скоро узнают сарматы, а с ними надменные свевы:
Римлянин лучше умрет, чем посрамит свою честь,