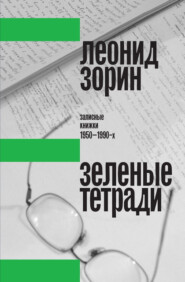По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Медный закат
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне стало ясно, что слишком рано сыграл я фаустову игру и слишком рано я пожелал остановить, удержать мгновение. Теперь-то я понял, что полстолетия еще не вечер – тогда, в Подмосковье, в подгнившем и заснеженном доме, молодость во мне еще билась и все еще подавала свой голос. Поэтому Костик легко явился, я попросту его разбудил.
В конце короткого февраля, невнятного, поспешного месяца, как будто разорванного на две части – на еще зимнюю, вьюжную, злую и на другую – ветер пронзителен, но в нем предвестие перемены, – в конце февраля я ехал в Москву с теплой охапкой густо исписанных, мятых, исчерканных страничек. Думал-гадал, как сложится жизнь моей новорожденной комедии, искал обнадеживающих примет в том, что дорога приветно поблескивает в этом скупом негреющем солнце, послушно стелется под колесами с налипшим снегом, послушно поскрипывает, похрустывает непрочным ледком, что есть в меняющейся погоде нечто веселое, юное, роминское, вот уже станция, издалека доносится стук моей электрички.
В Москве я с усилием применился к иному нетерпеливому ритму – в беззвучном подмосковном скиту успел перейти на медленный шаг. Почти мгновенно сложилась судьба моей ностальгической элегии. Зажегся Михаил Козаков – он приближался к сорокалетию и ощущал себя созревшим для режиссерского дебюта. Казалось бы, можно остановиться, передохнуть и спокойно ждать, когда наполнится твой колодец.
К несчастью, я никогда не жил, я только подсчитывал минуты, бездарно упущенные навеки. Ровесники, самые работящие, ценили заслуженные привалы и радовались своей убежденности, что смерть – это то, что бывает с другими. Эту уверенность я угадывал почти немедленно в каждом встречном. Что толку? Я беспокойно прислушивался к тому, как истаивает мой срок.
Я пробовал себя образумить издевкой над собственной неуемностью: поторопись, поспеши, бесстыдник. Многострадальное человечество ждет твоих реплик. Хватит бездействовать!
Не помогало. Я мрачно бурчал: что мне за дело до рода людского с его презрением к мелкой сошке, если я слышу стук метронома! Ну да, никому на свете не нужно, чтоб я убивал за столом свою жизнь. Но мне это нужно, необходимо. Я должен ежесекундно знать, что не пускаю ее на ветер.
И уже в самом начале лета я вновь обнаружил себя под Москвой, где стал распахивать старый замысел. Прошла неделя, и я с головой ушел, как под воду, в осьмнадцатый век, который танцующей походкой под звуки гавота и менуэта допрыгал, допорхал, доплясался. На русской земле – до пугачевщины, а в сердце Европы – до гильотины.
На сей раз не шалости Костика Ромина, а кровь, палачество, вероломство. Но что из того, если время, как прежде, течет не отдельно, а слитно с тобою.
Однако мне нужно было не только прислушаться к себе самому, понять, насколько я еще жив – мне нужно было разворошить чужое время, чужие судьбы, познать, что их может роднить со мною. И верно ли, что века проходят, а страсти и горести неизменны?
Я прикоснулся к забытой драме, давно превратившейся в легенду, и с нетерпением, и с опаской. Меж тем на этот раз сбор гостей мне обещал настоящий праздник. Императрица Екатерина, братья Орловы, Фонвизин, Гоцци, княгиня Дашкова и, наконец, главная женщина этой пьесы – моя несчастная самозванка – какой немыслимый хоровод!
Забавно, но я не страшился встречи с императрицей всея Руси, не сомневался, что понимаю неутолимую жажду жизни, скопившуюся в умильной Гретхен, ее осторожную приглядку к доставшемуся по воле фортуны непостижимому пространству, ее брезгливую пренебрежительность к этим неисправимым варварам, почти неприкрытую враждебность к холодной красоте северянок и тягу к медвежьей берложьей хватке неутомимых в любви мужчин. Ее упоение своей властью и утомительные попытки придать средневековому сфинксу лик просвещенного абсолютизма. Мне были понятны и очевидны претензии амбициозной дамы, которые ее побуждали то к лестной переписке с Дидро, то к неустанному графоманству, я чувствовал, что жизнь без скипетра теряет для нее всякий смысл и тем острей постоянный страх – неясно, откуда грядет опасность: не то от вчерашних друзей и любовников, которые подарили трон, не то от равнин, заметенных снегом, где зарождается стихия, не то от неведомых игроков, готовых оспорить ее легитимность.
Я был уверен, что разберусь с самолюбивой и гордой Дашковой. И разве же не смогу ощутить двух драматургов? Черт побери, в конце концов, оба мои коллеги. Суть не в отпущенном Господом даре – каждому, кто писал диалоги, мир представляется некой сценой, каждый по-своему обнаруживал скрытую театральность мира и человеческих отношений, каждый вылавливал в хаосе реплики. «Справлюсь», подбадривал я себя.
Смешно признаваться, но я ощущал в обоих родное и даже родственное! Казалось бы, общего было немного. Гоцци был признан, победоносен, он разрешал себя обожать, и разве одна сеньора Риччи бросала еле заметную тень на эту счастливую, яркую жизнь. Но дело не в пестром ее оперенье – была бы чернильница, свет в ночнике, прекрасная лихорадка наития и шелест внезапно слетевшей реплики. Фонвизина, русского комедиографа, я подстерег в роковое мгновение, когда ему предстояло решить, как дальше сложится его жизнь, готов ли он стать диамантом в короне или и далее будет шутить с отечеством, напрочь лишенным юмора. Предвидел ли он тот постылый день, когда, несчастный и обезноженный, он будет кричать молодым студентам: «Смотрите, внимательнее смотрите, к чему приводит литература!». Я трепетал от предвкушения, как буду писать его, полного сил, на том драматическом перекрестке, когда ты обязан сделать свой выбор.
Да, говорил я себе, все близко! Дело не в уровне дарований, дело в тех тайных душевных бурях, которые сотрясают любого, кто посвящал свою жизнь театру. Разве же сам я не на развилке? Разве не стала невыносимой зависимость от враждебной реальности? Мало ли было сановной злобы, опустошительной маеты? И эта всегдашняя забота – как ненароком не оказаться в том состоянии униженности, когда не то что не выжмешь строчки, но попросту не сможешь дышать? А вместе с тем, я не был готов для этой душной подпольной жизни, исходно бессмысленной для драматурга, чье слово должно звучать на сцене. Похоже, что мой бедный собрат думал о том же и чувствовал то же. Быть может, удастся его оживить.
Но я испытывал явную робость от предстоявшей мне близкой встречи с Елизаветой и Алексеем. Ах, надо было значительно раньше взяться за эту больную историю. Чтоб написать, как пал обольститель, подхваченный им же рожденной страстью, как вдруг сомкнулись земля и небо, как некая итальянская ночь стала вершиной его свирепой, спутанной, безжалостной жизни, для этого мне нужны их годы. Если в январской моей работе одолевали меня сомнения – не грузновато ли стало перо для легкого и беспечного Костика, то что говорить о таком испытании: обрушить на тускло мерцающий лист то оглушившее их исступление! Свести их вдвоем лицом к лицу, быть рядом с ними и вешней ночью, когда они стонут в объятьях друг друга, и в каземате в их час прощанья. Нет, поздно, поздно, кровь не звенит!
Еще не раз мне придется вздыхать и мрачно посмеиваться над свойством, так исказившим весь долгий мой век – в самые радостные минуты думать о том, что они мгновенны, так чувствовать его убывание. Что побудило того гончара, который лепил мое естество, столь непонятно соединять несопрягаемые частицы? Зол ли он был на наше племя или в неизреченной мудрости думал о том, что южные гены, отравленные болью и стужей, неведомым образом станут истоком какой-то едва различимой музыки – этого мне не дано узнать. Но эту сизифову ношу придется тащить на себе до последнего вздрога.
2
Как бы то ни было, надо трудиться и, каждодневно строча по бумаге, я раздувал в себе костерок. Я бередил, растравлял сознание, бесстрашно ворошил биографию, не опасаясь поранить кожу об острые края своей памяти. Точно подхлестывая себя, я бормотал: не щади былого. Или не пробуй писать о любви, о том, как бывает она страшна, благословенна и жизнеопасна.
Не знаю, передались ли перу эти невнятные заклинания, отозвалось ли оно на них – в июле я смог довести до финиша эту печальную историю, замешанную на лжи и страсти. И вновь оказался беззащитен.
Слепая зависимость от работы. Только она, одна на свете, давала обманчивую уверенность в своей несомненной неуязвимости. Пока я с утра сижу за столом, ни обстоятельства, ни болезни, ни даже полицейская власть не могут ни загнать меня в угол, ни уж тем более побудить выбросить белый флаг и сдаться.
Но стоило только мне завершить свой реквием любви и коварству, как вновь я попал в воздушную яму, не ощущал под ногами почвы. Не было ничего удивительного, что я ухватился за предложение отправиться в дальнюю дорогу.
Оно было сделано Обществом дружбы с Латинской Америкой – организацией, «крепившей международные связи». Поездки от имени этой структуры были своеобразной ступенью, этаким промежуточным звенышком между обыкновенным туризмом и официальным визитом. С одной стороны – не делегация, с другой – не кочующая группа. Сбивалась кучка интеллигентов, по мысли, представлявших собою науку и тонкую сферу искусства, и отправлялась знакомиться с миром. Подобная миссия предполагала скорее условную, чем действительную, самостоятельность – и, тем не менее, некая грань существовала. Пожалуй, было бы неразумным не зацепиться за эту возможность.
В ту пору этот кусок планеты, бесспорно, вызывал благосклонность моей подозрительной сверхдержавы. Конечно, в основе такой расположенности было приятное заблуждение, но заблуждение в ее духе. Иллюзия заключалась в том, что стойкую взрывчатость метисов, отдавших этому материку свой порох, воинственность, свою кровь, советские власти сочли своим козырем в тогдашнем международном раскладе. И дело было не столько в симпатии к бунтам, восстаниям, к «виолансии» – это весьма мелодичное слово попросту означало «насилие» – тешила сердце глухая досада, которую у Южной Америки всегда и во всем вызывала Северная.
Не было ничего уморительней того величавого одобрения, с которым кремлевские талейраны высказывались о любви к революции, питавшей «пылающий континент». На самом деле, такая любовь, займись она где-нибудь рядом, под боком, могла бы их лишь привести в содрогание, как это случалось не раз и не два, сильнее всего на белом свете они опасались протестного духа. Любое брожение угрожало их прочной, на диво отлаженной жизни, их новоявленной буржуазности, их жадной, почти горячечной страсти к разного рода цацкам и бляхам. Старые дряблые телеса привыкли и к роскоши и к комфорту, а слабые души – к почету и лести, к прельстительным правилам иерархии, к их фарисейскому псевдобратству с объятьями, чмоканьями и здравицами. К их неизменному появлению на возвышении Мавзолея в октябрьские и майские праздники, с которого они важно помахивали бредущей мимо трибуны массе своими короткопалыми дланями. И вся эта постыдная тяга к заново созданным ритуалам, к парадности быта, к чиновной избранности была неизбежным естественным выплеском их торжествующего плебейства, они его пестовали, подчеркивали, ему-то и надлежало свидетельствовать их кровные социальные узы с давно уже чуждыми хмурыми толпами.
Звериный инстинкт им четко подсказывал, что в этой-то подсознательной родственности, столь преуспевшей сановной кучки с громадной армией неудачников, таится их личная безопасность. И все они исправно, без устали, едва ли не всякий день демонстрировали свою фамильную малограмотность, свои неверные ударения, свою родную незамысловатость – все ту же социальную близость!
Они выставляли на обозрение свои непреходящие корни и связи с октябрьским мятежом, с конармией, с шинельной стихией, с тельняшками, кожанками, буденновками, с родимою матерью-революцией. Пусть помнят, что все они из народа, что все они дети семьи трудовой, что безупречным происхождением, подвижнической партийной работой они заработали свое право однажды улечься на этой площади.
Ну а «пылающий континент» был далеко, за океанами, почти эфемерным, неосязаемым, можно зачислить его в союзники, любовно-подстрекательски нежить, гладить по шерстке и укреплять своей бескорыстною солидарностью, подсчитывать всякие проявления его неприязни к несносным гринго, надеяться на темперамент latinos, – авось самолюбие бедных родичей однажды заставит их показать свои креольские коготки. Обиды уязвленной провинции ничуть не меняли картины мира. Но что из того? Они отвечали их старческой нужде в мифологии, в легендах, в утешительных сказках.
Бог в помощь! Ведь нежданно-негаданно тот август обернулся подарком. Когда я простился с княжной Таракановой и все повторилось, как в январе – не знаю, что делать, куда деваться, – вдруг эта спасительная возможность.
Стоило лишь взлететь, и немедля – это бывало со мной не раз – я ощутил, что все изменилось.
И дело было не только в том, что солнце приблизилось – в чем-то ином, не слишком понятном, неуловимом. Уже в самолете ушла повседневность с печалью, которая одолевала, с тревогами, с земным притяжением, явилось ощущение воли. И люди вокруг преобразились, стали естественней, непринужденней, как будто они не ремни застегнули при взлете, а, наоборот, распрямились, вздохнули освобожденной грудью.
Возникло противоречивое чувство своей автономности и отдельности, но вместе с тем несомненной общности с твоими спутниками по плаванью на этом отважном воздушном крейсере. Достаточно скромная кучка людей вдруг стала сообществом аргонавтов, а земляки превратились в землян.
Границы, таможни, закрытые двери, избороздившие эту планету и словно перечеркнувшие глобус, стали условными и бессильными, решительно ничего не значащими. Я стал первопроходцем и странником, перемещающимся во Вселенной, принадлежащим себе самому. Испытывающим восторг возвращения к ребенку, пришедшему некогда в мир.
Цветастое Южное полушарие обрушилось на мою бедную голову. И не было ничего удивительного в том, что она ходила кругом, а почва раскачивалась под ногами. Попробуйте только в себя вместить языческую, ацтекскую Мексику с ее пирамидальными плитами над погребенными империями, с ее столицей, страною в стране, с ее провинцией, спящей под солнцем, в старинной колониальной истоме, с забытыми нищими поселеньями с их хижинами под тростниковыми крышами. Сделайте хотя бы попытку понять Перу с ее странной сьеррой, степною и горной, с сумрачной костой, которая учащенно дышит грозным предчувствием океана. Вступите в колумбийское буйство красок и стилей и окунитесь в его несмолкающее разноголосье. Когда вы опомнитесь и очнетесь, вы обнаружите то, что в памяти остались не сведения, не встречи, не постижения и открытия, осталась лишь скачущая мозаика из ярких пятен и острых линий, магическая полубезумная живопись, неведомо как в себе сочетающая щедрое масло, скупую графику и дымчато-нежную акварель.
Пройдет еще какое-то время – и сквозь цвета, голоса и воздух, согретый полднем, настоенный ветром, пробьются застрявшие в памяти образы – тенистая водная колея – петляющий канал Соче-Милко, взметенные улицы Боготы, летящие вниз, точно пестрые мячики, с горластых окраин в нарядный центр, прохладная утренняя Лима, развалины в окрестностях Куско.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: