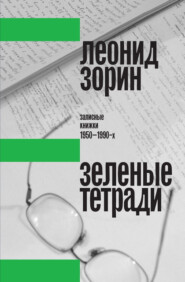По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Покровские ворота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Геля. Так много?
Виктор. Девушки это любят.
Геля. Але то есть глупство. Просто глу-пость. Зачем испортить настроение человеку, если ты все равно придешь. Я читала: точность вежливость королей.
Виктор (с лукавством). И королев.
Геля. Каждая женщина – королева. Это надо понимать раз навсегда.
Виктор. Вы хотите сказать – понять раз навсегда.
Геля. Добже, добже. Вы всегда лучше знаете, что я хочу сказать.
Свет гаснет.
Снова свет. Пустой зал. Переговорный пункт. Доносится голос, усиленный микрофоном: «Будапешт, третья кабина. Будапешт на проводе, третья кабина».
Виктор. С кем ты собираешься говорить?
Геля. Если пан позволит, с Варшавой.
Виктор. А точнее?
Геля. Пусть это будет тайна. Маленькая тайна освежает отношения.
Виктор. Рано ты начала их освежать.
Геля. Это никогда не бывает рано. Это бывает только поздно.
Виктор. В конце концов, это твое дело.
Геля. На этот раз пан прав.
Виктор (оглянувшись). Здесь не слишком уютно.
Геля. Зато тепло. Когда будут страшные морозы и мы совсем превратимся в ледышечки, мы будем сюда приходить и делать вид, что ждем вызова.
Виктор. Тебе надоело ходить по улицам. Я тебя понимаю.
Геля. Витек, не унывай. Мы нищие студенты. Я бедненькая, зато молоденькая, и у меня… как это… свежий цвет лица.
Виктор. Обидно, что я не в Москве родился. По крайней мере был бы свой угол.
Геля. Я охрипла. Я не знаю, как буду разговаривать.
Виктор. Совсем не охрипла. Голос как голос.
Геля. Ты не знаешь, меня лечили два дня. Меня закутали в два одеяла. Потом мне давали чай с малиной. Потом аспирин. Потом я пылала. Как грешница на костре. Потом я не выдержала и сбросила с себя все. Это был восторг. Я лежала голая, ела яблоко, Вера играла на арфе – все было словно в раю.
Виктор. Жаль, меня там не было.
Геля. Старая история. Стоит создать рай, появляется черт. Ты и так во всем виноват. Из-за тебя я потеряю голос и погублю свою карьеру. Певица не может быть легкомысленной.
Виктор. Ты никогда не была легкомысленной.
Геля. Альбо ты управляешь своим темпераментом, альбо он управляет тобой.
Виктор наклоняется и целует ее в щеку.
Браво, браво.
Виктор. Могу повторить. (Стараясь скрыть смущение.) А который час?
Геля смеется.
Что тут смешного?
Геля. Я заметила, человек интересуется временем в самый неподходящий момент.
Виктор (хмуро). Не знаю. Не обращал внимания.
Геля. Слушай, я тебя развеселю. Один раз отец нагрузил телегу большой копной сена. В этой копне были спрятаны евреи. Я должна была довезти их до другого села. И только меня отпустил патруль, мы не проехали даже два шага – из копны высовывается голова старика, в белой бороде зеленая травка, и он спрашивает: «Который час?» Матерь Божья, я еще вижу патруль, а ему нужно знать – который час?
Виктор. Ты меня очень развеселила. Тебя убить могли. Или – хуже…
Геля. Что может быть хуже?
Виктор. Ты знаешь сама.
Геля (мягко, не сразу). Ты чудак, Витек.
Виктор. Перестань. Какой я чудак?
Геля. Зачем ты злишься? Я люблю чудаков. С ними теплее жить на свете. Когда-то в Варшаве жил такой человек – Франц Фишер, мне о нем рассказывал отец. Вот он был чудак. Или мудрец. Это почти одно и то же. Знаешь, он был душой Варшавы. Она без него осиротела.
Голос, усиленный микрофоном: «Вызывает Варшава.
Кабина шесть. Варшава на проводе – шестая кабина».
Это – меня.
Голос: «Варшава – кабина шесть».
Подожди, я – быстро. (Убегает.)
Виктор закуривает, ждет. Голос: «Вызывает Прага. Кабина два. Прага на проводе – вторая кабина». «Вызывает София – кабина пять. София, София – пятая кабина». Виктор тушит папиросу.
Возвращается Геля.