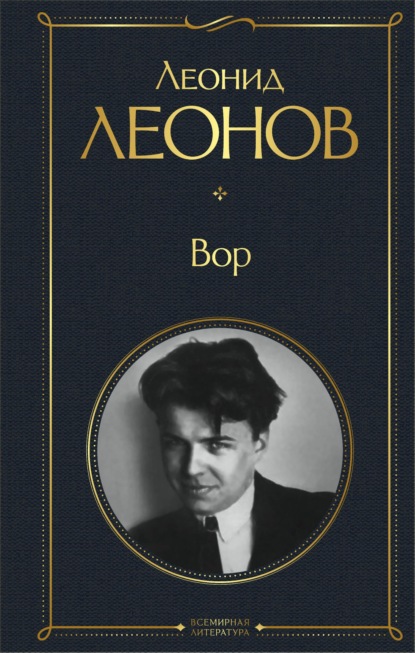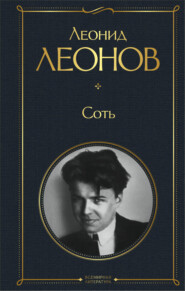По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты ведь первая? – приподымаясь, спросил Митька и поежился от вторичного звонка над головою; никто не обращал на него внимания теперь. – Мне, пожалуй, пора на место?
Сестра скинула халатик, а Пугль принялся обдергивать свой черненький пиджачок, словно ему, не кому другому, предстояло покорять зрительские сердца. С порога Митька оглянулся на тишину и опустил глаза: привстав на цыпочки, старик сосредоточенно крестил питомицу, стоявшую с закрытыми глазами.
Не попав к себе на галерку, Митька должен был по дороге занять пустовавшее место в рядах; цирк нестройным плеском уже приветствовал эту знаменитую, в черном пока, артистку, доставлявшую наслаждение минуткой ужаса. Цветные прожекторы нащупывали глянцевито-черную петлю, свисавшую из купола, и многократно повторяли ее на дальней стене. Только один зритель не хлопал в ту минуту. С болью сомнения узнавал он сестру в улыбающейся циркачке там, внизу, которая, подкупающе раскинув руки, кланялась за проявленную к ней доброту. Привлекательность ее номера заключалась в полном отказе от усложняющих приемов, помогающих артисту продать его дороже. Сбросив черный плащ на руки подоспевшей униформе, Таня стала легко, по веревочной лесенке, подниматься на высоту. И такая была в том безупречная слаженность движений, проникнутая такой убедительной уверенностью в безопасности, что Митька и все остальные две тысячи вместе с ним испытали подсознательную благодарность к артистке, избавлявшей их от тревоги, способной испортить предстоящее удовольствие.
По рядам, кругами расширяющимся кверху, пробежала тишина, а смычки скользнули на самый верх, и предостерегающе рассыпался корнет-а-пистон. Потом один за другим пошли вступительные перед штрабатом трюки, но уже со средины номера Митька из какого-то суеверного чувства перестал глядеть на сестру. Если бы не ее приглашение в прошлый раз – «нарочно для тебя уроню платок сверху, смотри!» – ничем бы его не заманить в цирк, да еще за полтора часа до собственного дела. Озабоченный затянувшейся паузой, впрочем, он украдкой взглянул наверх: подсвеченная снизу синим лучом, который Митьке показался оранжевым, Таня неторопливо делала что-то, присев на трапеции.
– Ботинки прикрепляет, – вслух сказал в ложе перед ним средних лет начинающий жиреть человек, и Митька принялся глядеть ему в складчатый затылок, чем-то похожий на бараний курдюк. Его дама, пышная – точно с двумя дынями за пазухой, снимала с апельсина кожуру, пользуясь ногтем отставленного в сторону пальца с грязноватым сверкающим камнем в кольце.
– Как она долго там… – поворчала дама, а Митька вспомнил неизвестного назначения ременные застежки на башмаках сестры.
Знаменитый прыжок в петле Гелла Вельтон приберегала к концу. Слегка закрепив голубой колпачок на волосах, она закинула руки за шею и стала вращаться вокруг трапеции. Потом, недосягаемая для векшинской жалости, она еще что-то делала там, в своей высоте, рассылая в перерывах воздушные поцелуи всем, кто потратил вечер и деньги ради нее. Все это время Векшин малодушно, скосив голову набок, занимался обстоятельным изучением ненавистного затылка перед собою.
– Вот он, гляди, штрабат… – произнес затем спутник толстой дамы, продолжавшей спускать с апельсина оранжевую стружку.
Все замолкло, даже положенная барабанная россыпь в оркестре. Тишину пронизывало лишь шипенье прожектора да, казалось, напрягшиеся до легкого гудения тросы. С нетерпением страха на этот раз Митька поднял глаза. Незнакомая и бесконечно удаленная, показалось ему, артистка стояла с петлей на шее, вымеряя расстоянье до черного, как мишень, коврика, поджидающего на опилках внизу. Степень напряженья невыносимо усилилась. Кто-то, пригибаясь, уходил в рядах, женский голос крикнул довольно. Дама перестала чистить апельсин, и вопросительно поднятый ноготь спорил тусклым блеском с бриллиантом. Затем последовал общий вздох, и протекли еще несчитанные мгновенья, прежде чем ноготь мизинца снова врезался под оранжевую корку. Бурные рукоплесканья и медный треск в оркестре возвестили об окончании номера. Сестра была уже внизу, светлая и несбыточно голубая, с перекинутым через плечо плащом, а над головой у ней еще раскачивалась шелковая, обманутая веревка. Убегая, кому-то отдавливая ноги, Митька успел приметить на арене Стасика, провожавшего Таню к нему на Благушу; собаки из следующего номера, выстроясь полукругом, жались друг к другу, нервно поглядывая на разряженного в клоунские блестки повелителя.
На ходу запахивая шубу, Митька выскочил из цирка на мороз. Щекутина он подхватил за карточным столом в одной малине неподалеку; они вышли тотчас же. Донька и подсобная команда находились уже на месте… Расстались несколько часов спустя, на исходе ночи, покидая акционерного медведя в самом неприглядном виде. Оставшись наедине с собой, Митька долго сидел на смежном бульварчике, охваченный скорее смятением духа, чем понятной усталостью. Никакая радость на свете не погасила бы в нем вдруг возникшей, с каждой минутой возраставшей смуты, и причиной ее была крохотная, лишь на самом месте преступления и с непоправимым запозданием обнаруженная Митькой подробность. Он начинал постигать существо жестокой и гадкой Агеевой проделки над собой и чем дольше размышлял, тем больше приходил к заключению, что вряд ли Агей додумался до нее без посторонней женской помощи.
За ночь мороз усилился. В снежной предрассветной пыли кое-где беспорядочно возникали освещенные окна, хотя безмолвие ночи еще тяжко лежало на городе… Когда смутные белесые тени наступающего дня поползли по снегу и полностью объявился в улицах гул пробужденья, Митька разбудил ночного извозчика и нанял на Благушу. Никаких сомнений не оставалось у него теперь, что замысел ножовой шутки принадлежал коварной Маше Доломановой.
Ехал он к ней упрекнуть за жестокий и, верно, не первый уже удар, принимая во внимание прежние Митькины огорченья, а между прочим, бросить в очи ей напоследок какое-нибудь особо беспощадное словцо… однако чем дальше ехал, покачиваясь в санях на московских сугробах, тем отчетливей сознавал, что не за тем, чтоб браниться, едет, а из вдруг возникшей потребности взглянуть в похудавшее, тоже бессонное Машино лицо, – хоть теперь простила ли после такого, а потом завалиться где-нибудь в непробудный, на полгода, сон!
«А впрочем, что мне в ней, – слышалось ему в унылом пении полозьев на раскатах, – в чужой жене, захватанной, Агеевой. И разве слаще нынешнего было бы тогда еще, в Рогове, пробиться в доломановские зятья? Давно сгнил бы ты, Митя, от семейного счастьица, на толстых перинах, на жирных доломановских щах. Ходил бы по престольным праздникам в демятинскую церкву всем выводком, а после обедни к попу Максиму на гуся с домашней наливкой, а там опять с головою в пыланье неукротимой Машиной любви… Тогда чего ж тебе угодно от жизни сей, обожаемый Дмитрий Егорыч?»
Соскочив с саней, под неодобрительным взором извозчика Векшин приложил горсть снега к разгоряченному лбу и лишь тут ощутил, как сильно прохватило его на сквозняке, пока возился с медведем. Начинался жаркий озноб, с затылка наползал знакомый простудный гнет, сердце билось толчками, как отравленное… Вдруг Митька передумал: чтобы зря Маше боль свою не выдавать, чтоб раньше сроку не тешилась, разумнее было по горячему следу, пока не ушел от Пчхова, у самого Агея проверить догадку и в первую очередь выяснить, как оно могло случиться, столь поразительное совпадение, что в громадном столичном городе Дмитрий Векшин попал с фомкой в гости именно к лучшему своему дружку Арташезу?
Толкая ногой пчховскую дверь, Митька больно и надрывно закашлялся.
XXIII
Как и следовало ожидать, Агея на месте уже не оказалось, да Митька и сам тотчас забыл свое намеренье. Пчхова он застал в жарком споре с Фирсовым: впрочем, горячился главным образом первый, потому что речь шла о важнейшем для него предмете, а второй лишь подыгрывал ему восклицаньями согласия, удовольствия или сомненья. Карандаш его, будто и не ночь, мелким бисером устилал очередную страничку записной книжки. И не то было поразительно, что до утра затянулась беседа, а то, что Пчхова хватило на нее при столь требовательном партнере.
– Хватит с тебя, сочинитель. Мало тебе Благуши, за самого Пчхова принялся! – неприятно для обоих пошутил Векшин; прямо в шубе он присел у печки, стремясь скорее добраться до тепла. – Собачий холод на дворе, подкинь еще поленце, мастер жизни!.. Вдоволь поди наговорился с Агейкой?.. подходящий для тебя оказался товар?
– В смеси с другими пройдет… – только и буркнул Фирсов, боясь утратить кончик порвавшейся мысли; впервые присутствие Векшина стесняло его.
Спор безнадежно обрывался, Фирсов с досадой прикрыл свою ловушку. Не поднимаясь с места, Пчхов прощупал вошедшего хмурым взглядом.
– Не в гостях ли засиделся, Митя?
– Так, важное совещание одно… – и, махнув рукой, зашелся в приступе кашля.
– Шатаешься, видать, с выпивкой совещание. Снилось мне, будто подстрелили Митю, поберегись: у меня сон вещий!.. Ишь как треплет тебя… не угодно ли, лекарствия пузырек составлю? Как рукой сымет…
– Все нутро кашлем выворачивает, – пожаловался между тем Векшин, прижимаясь спиной к остывающей печной кладке. – Поди на каустике лекарство свое составляешь, самоварный лекарь!.. нет, это от табаку у меня.
Его знобило, он заметно путался в словах. Мельком помянув про бывшего приятеля, Арташеза, тоже любителя полечить домашним средством, он без очевидной связи перескочил к Маньке Вьюге, чтобы от нее распространиться о пропойном доломановском братце, не известном никому из его собеседников. И по тому, как вникал Пчхов в его скачущие мысли, не прервав ни разу, а только хмыкал, покачивая головой с видимым участием, – Фирсов ухватил наконец в Пчхове то главное, чего ему не хватало для последнего наглядного портретного сходства.
«Весь мир был для Пчхова театром искреннего и слитного действа, и он один, зачарованный зритель, глядел из своей мастерской как из ложи на происходившее перед ним зрелище жизни… Глядел и все не мог наглядеться на нескончаемое повторенье одной и той же темы, сплетение обманутых любвей, неутоленных вожделений, молодостей на взлете и в падениях. Все ему было там до самозабвенья интересно, как путнику на берегу моря, где то и дело из голубой вечности бежит, бежит волна, чтоб донести свой клочок пены, шевельнуть гальку и растаять на полувздохе… – Фирсов мысленно зачеркнул последние три морские строки, чтобы сохранить единую, театральную фактуру образа. – И, несмотря на возраст, так было ему все интересно, что и самое плохое стремился досмотреть до конца».
Вдруг Пчхову надоело тратить время на шутливую перебранку с Векшиным.
– К слову, вот ты обронил мне давеча, Федор Федорыч, – продолжил он прерванный векшинским вторженьем спор, – что затопчут, дескать, нас враги жизни, если с прогрессом в ногу не идти. А я все жду, не взбунтовались бы когда-нибудь твои людишечки: довольно, скажут, нам клетку этой самой цивилизации для себя сооружать все тесней да строже. Правда твоя, позволяет нам наука в бездну заглянуть, да она же и скинуть нас может… да еще в какую бездну! Вот я тебе притчу обрисую, ее и тебе полезно послушать, Митя!.. отец Агафодор, уединенник мой, у которого я душу-то во младые лета спасал, ночью, у полусмертного ложа моего сидя, сказывал… Когда у Адама с Евой случилась та самая промашка с яблочком, то и погнали их из райского сада помелом. Присели они под колючею оградою на бугорочек, дрожат обнямшись, проливают горько-соленую слезу, что впервые не емши надо спать ложиться. Они ведь там ровно детки, на полных харчах состояли, в раю-то. Плачут этак, своеобычно друг дружку попрекают… Тут и подходит к ним ихний соблазнитель, только уж не в прежней змеиной коже, а переодемшись в партикулярное платье, разумеется. «Не печальтеся, горемышные, – он к им задушевно так, нараспев обращается, – в чем ваше горе? Вы мне доверьтеся, а то глядеть на вас кровью сердце обливается!» Они ему так в рукав оба и вцепилися: «Пожалуйста, говорят, примите в нас участие, а то с квартиры согнали, зверь в лесу стонет, ночь подступает… жутко в мире голому да натощак!» Он им в ответ: «Не убивайтеся, гражданы, в тот сад и другая дорога имеется. Вставайте, пожалуйста, время – деньги, я вас сам туда проведу!» И повел… – Пчхов задумчиво огладил заросшие седой щетиной щеки. – Вот, с той поры и ведет он нас. Спервоначалу пешечком тащился, а как притомляться стали, паровоз придумал, на железные колеса нас пересадил. Нонче же на еропланах катит, в ушах свистит, дыханье захлестывает. Впереди Адам поддает со своею старухою, а за ими мы все, неисчислимое потомство, копоть копотью… ветер кожу с нас лоскутьями рвет, а уж ничем теперь нельзя нашу жажду насытить. Долга она оказалася, окольная-то дорожка, а все невидимы покамест заветные-то врата! – Он кончил вздохом сочувствия, и можно было по его сказке угадать, на что ушла у них с Фирсовым зимняя длинная ночь. – Так-то оно на поверку обстоит, Федор Федорыч.
– И правильно! – сумбурно вмешался Векшин. – Зато уж как достигнут, сами станут всему хозяева. Человек есть такое вещее слово, Пчхов, что выше всех титулов на свете. Он и не может иначе: ему вперед и вверх надо, все вперед и вверх…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: