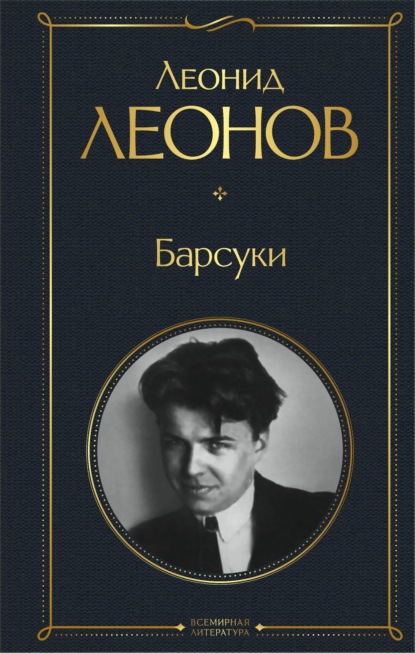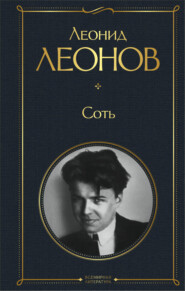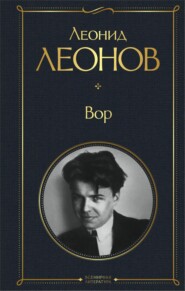По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Барсуки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На первой развилине пути – правая шла в Гусаки – выплюнул Егор Иваныч сломанную папироску.
– Бабы бабы и есть! – с досадой отрубил он. – Ну чего ей бегать, ровно бешеной? Ну-ко двинься, малец, не грязни сапога.
– А как же! – охотно откликнулся Савелий. – Вот ты даве меринка моего хаял. Я и говорю, у лошади, говорю, зубы главное. Она зубами пищу принимает. А брюхо – это никакого влияния…
– Ладно, ладно… на пень наедешь! – оборвал его Брыкин. Голые, предзимние леса бежали по сторонам. Шмыгали малые лесные лысинки, мертвенные от проиндевелой зелени. Прошагивали мимо широким шагом темные сосновые стволы. «…И вот переменилась жизнь ваша, Егор Иваныч. Давно ль в холостом виде по земле гулял, и никаких забот, кроме как родителям пятерку в месяц для благолепия дома и во исполнение христианской заповеди. Вот тоже и Аннушка! Девочка быта – насмешкой и недобрым словом Егорку шпыняла: и ряб, и мал, и глаза заместо пуговок к штанам бы! Но и тогда Егорка Тарары на бойкую Анку зуб точил. Ах, погодите, Анна Григорьевна, все на свете совсем не окончательно. Почем знать, может, милей всех стану, может, и детенычка спородите от убогого, лупоглазого Егорки!»
…И вот стала Аннушка законной хозяйкой в брыкинском дому. Будет теперь в город к мужу покорные письма слать. Летом – полевые тяготы на Брыкиных; зимами – сидеть будет под оконцем, сиротливая да скучная, непрестанной тревоге – не завел ли другую – ждать. И от любви московского магазинщика Егора Брыкина заведется в дому тихонький мальчик. Ему будешь ты, Егор Иваныч, в письмах слать родительское благословение, а в приезды учить пониманию жизни, не снимая кожи, но внедряя покорство и ум. Ах, какие развлечения наполнят житейскую твою скуку, Егор Иваныч!
Страшились шевельнуться Савельевы ребятки, хоть и давил Пашке на ногу ящик с яблоками, а у Сени затекла нога. Боялся вынуть ногу из-под ящика Пашка, словно мог обидеться брыкинский ящик. Сеня дремал, склонясь на Пашкино плечо. Все чудился ему почему-то скворечник, что стоит, привязан к черемухе, перед домом. Во все последующие годы, когда думал о родном селе, скворечник этот, крохотный домок весны, первым вставал в Семёновой памяти.
Не знали братья, что не вернутся в село в прежнем своем виде. Не знали, какие ждут их в городе небывалости. Дома – в каждом деревенской колоколенке укрыться впору. Машины – пожирательницы угля, извергающие с дымом и грохотом вешь из себя. Люди – хлопотливое, толкотливое племя, спешащее надумать больше, чтоб туже людям же на земле стало жить. Не знали и потому не плакали.
III. Зарядье
В Мокром переулке – потому что у Москвы-реки у самой, – на углу Большого Щукина, желто-розовый дом стоит о четырех длинных ярусах. Давно – тому сто лет, и кирпичи и люди крупней были – сшит был каменный дом этот казенным покроем, без улыбки и тех, кто строил, и тех, кому жить в нем. Был он с теченьем времени заботливо прошиваем железными нитками балок и скреп, но все напрасно. Был и без того дом тот в дряхлости своей столетней крепок, как старый николаевский солдат.
Правым боком каменного своего тулова чуть всего Щукина не перегородил. Левым – подпирает тощую древнюю церквушку, осеняющую Мокрый: не дает ей упасть и рассыпаться в легкий ладанный пепелок. «Обопрись, мать, на мою каменную грудь. Крепкая, выдержит», – такое, кажется, говорит он, старый солдат, притихшей старушке, напуганной гомоном возрастающей жизни.
Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народу, всех видов и ремесл: копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня. Окна в дому крохотные, цепко держат тепло. Голуби живут в навесах, прыгают оравами воробьи. Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины. Глухо и торжественно, как под водами большой реки. Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест. Тихо и снежно. Жизнь здесь похожа на медленное колесо, но все спицы порознь.
По второму ярусу каменного солдата протянулось синим пояском железное уведомление: помещаются тут трактир, постоялый двор и меблированные комнаты. Название всему заведению чохом – «Венеция», а принадлежит Секретову Петру.
Нетронутой, несуесловной стариной овеян секретовский дом. На обширном здесь проходном дворе рядами выстроились извозчичьи сани. Лошади фыркают и грызут овес. Теплый навоз дымится на снегу. Голубиные стаи, целые облака голубей, лениво вздымаются и снова оседают вокруг лошадиных кормух. Голубь здесь смирный, доверчивый, с руки берет. Голоса – гулки: железа много. Железные ведут на крыши лестницы, железные караулят у внутренних складов двери, железные галерейки и стропила, переплетаясь, вьются по стенам. Обсижена голубем и усыпана снежком вся та железная паутина.
С фасада смотреть – пониже секретовского второе висит железное уведомление. На краях его золоченый крендель, синее казанское мыло, белая сахарная голова. «Бакалейная торговля Быхалова» – здесь теперь Савельевы ребятки. Помещение это сырое и темное, как в сапоге здесь: потолки висят тяжко, гнетут потолки, потому что весь дом на нижнем этаже как на сапогах стоит. Разделены сапоги длинными сквозными воротами: проходит в них ветер, едет извозчик, и обоим не тесно.
Глядят секретовские окна весело: «Слава те, не гробами торгуем!» Быхаловские окна исподлобья глядят. Зимами, как ныне, уныло мерзнут на них уксусов мрачные бутылки и сухой горчицы скоробленные пачки. Летом мякнут от жары алые ломти арбуза, кучи перезрелых огурцов, горки румяных, как девки, яблок. Целые стаи устремляются тогда к ним жирных, ленивых мух и тощих зарядских ребят. Тогда и запах в Зарядье сменяется на арбузный…
А запахов здесь много, с них бы и нужно начинать. То пальнет в прохожего кожей из раскрытого склада – запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки, притулившейся Быхалову наискосок. То обдаст его, заметавшегося, как помоями из дудинского подвального окошка, а Дудин – скорняк.
А уже за углами сторожат его сотни других прытких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше и не ходить.
Зарядская суетня – с рассвета. В семь, едва утро, вскакивает Сеня с дощатой койки и бежит отпирать. Холодно и дрожко, а сонные глаза еще трудней отмыкаются, чем тяжелые, забухшие инеем замки. Покуда бежит Пашка в трактир за кипятком для чая, сам Быхалов, Зосим Васильевич, выходит за дверь, на улицу, хрустящую под шагами редких прохожих. Он, обнажая лысину от стеганого ватного картуза, сурово крестится на три стороны, обступающие его бакалею. В одной стороне, направо, розовеет в заре старое золото кремлевских маковок. В другой – за проломом Китайских ворот – стоит неизвестного назначения глухой дом: тридцать восемь лет верится Быхалову – за этим домом восток. В третьей стороне пустует незастроенное место; стоял здесь дрянненький домишко, да подсох в жару, да подмок в осень, да мышки его подгрызли, да из трубы однажды залило, – остатки пожар догрыз. Виден здесь спокойному оку Быхалова огромный клок зимнего неба.
Из тесноты и житейской маеты любо глядеть зарядцу в хрусткое зимнее небо декабря. В нем синие и розовые ленты, словно в брыкинской галантерее, бегут и ширятся слепительными дугами. Их моет морозное солнце, топорщит снежный ветер. Птицы, замедлив взмахи крыл, падают в тех лентах. Голуби окунаются в холод, ворона чертит ровные, бесшумные круги…
А в переулке синё от снега и пара. Домики в нем, как курносенькие ребята, как пропылившиеся, ветхие старички, как пузатые купчики с ярлыками вывесок, – который чем богат.
…Чинно и молча, вприкуску, пьют густой и вязкий, обжигающий чай. Неприступен в те минуты и телом прям Быхалов, как человек, поставленный к рулю. Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел… А тут народ начинает приходить.
Мальчик от сапожника, худой и тоненький, прибегает, смерзшими ногами выбивая дробь. Ему – «рубца на пятачок, за две – огурец, да горчички, да семитку сдачи». Извозчик входит, синей тушой вгоняя холод в лавку.
– У-ух-те, Зосим Васильевич! Пеклеваннички есть? Дудин Ермолай, скорняк, седой и взъерошенный, страшный по нелюдской своей худобе, с кашлем просовывается сюда же.
– Эх, дозволь, дядя Зосим, рассольцу хлебнуть!..
– Чуть свет, а ты уж похмеляться. Эх ты, козырь! Ты б лучше орехи грыз! – гудит из-за прилавка Быхалов, кивая на огромную, снегом, как мохом, обросшую кадь. – И право, орехов бы тебе. Ты купи у меня фунт и грызи. Зубов у тебя мало, надолго хватит.
– Их-х вы какой! – приниженно сипит Дудин, прыгает и хлопает опорками. – Не пить, так это бунт даже против государства… для нас и устроено! – Звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол. – И потом, как это вы сказали? Оре-хи? – Нездоровый дудинский смех разом наполняет всю лавку. – Орех, Зосим Васильич, вещь наивная! Только пузырь об него засаривать, а пользы-действия, извините, никакой.
– Ну и козырь! – благодушно дивится Быхалов. – Ты шкурок-то моих смотри не пропей.
Все в лавке начинают подхихикивать. Карасьев, быхаловский молодец, каким-то извивающимся тенорком, а старушонка, пришедшая за ваксой, изрядным басом. Кажется, что даже и Никола из киота, и керосиновая бутыль, и пятифунтовик на весах усмехаются над незадачливым скорняком.
– Ну, зачем пропивать, – смешно вертится Дудин. – Мы у хороших людей не возьмем. А орехом ты меня не потчуй. Да что ж я, лошадь, что ли, орехи-то грызть?! Эхе-кхе…
Опять хлопает дверь. Новые приходят люди, новые приносят слова. Катушин, древний шапошник с четвертого этажа, придя за ситником, тихонечко вразумляет по уходе Дудина:
– Да и как, посудите, не выпить ремесленному человеку! Сынка третьевось схоронил. Вот и проклаждается на радостях, что ослобонился.
Развешивая соль, в тон Катушину, рассуждает ярославец Карасьев:
– У него уж больно дух немыслимый. Всю улицу вонью запрудил. Пройти мимо фортки – очень нехорошо. У него даже крысы перевелись. По-моему, так даже воспретить бы таким!..
Дверь настежь. Пар клубится с пола и на сторону гнетет Николино пламя. Кацавейки влезают и чуйки, рыбье пальтецо захудалого чиновного умника и купеческой родственницы пудовая шубища-дипломат. Шелестит ссыпаемое пшено, стучит хлебный нож, звенят медяки. Пустеют хлебные полки, худеют сахарные бочки, обнажается днище керосинового чана, захлебывается маслом обмерзший жестяной насос. И шумно, и тесно. Небыстрыми ручейками течет серебро в дубовый хозяйский ящик, туда же прыгают темные, как лики московских Никол, пятаки…
В ту пору и само солнце в морозной дымке над Зарядьем – медный, морозом обожженный докрасна пятак.
IV. У Катушина
Всех приходящих лукаво и нелукаво, и слепых и зрячих, и уродов и умников, принимало Зарядье и платило им не поровну, а по тихости или по буести их.
Робким, задумчивым мальчонком пришел сюда из деревни Катушин, дерзающим и неспокойным – Ермолай Дудин, лукавым и тихим – Петр Секретов. На них, на троих, глядел Сеня и детским смыслом угадывал, что между ними где-то поместит жизнь и его самого. Все трое были совсем разные, – это город нашел в них разницу и подразделил их.
Тринадцатилетним, как и Сеню, привела нужда Стёпушку Катушина в Зарядье. И Зарядье в лице шапошника Ралунова Стёпушку не отринуло, а приняло и вынянчило, кинуло ему хлебца, чтоб жил, выделило койку, чтоб спал… И сказало Зарядье Катушину: «Будь шапошником, Степан». И с тех пор, повинуясь строгому веленью, стал он быстрой, нестареющей рукой простегивать картузы и меховые шапки для покрытия чужих голов. Сам же так и пробегал всю жизнь чуть ли не в той же самой ушанке, в которой выбросила его деревня.
Он напоминал собою горошинку, – тоже и глаза его, улыбчато бегающие поверх разбитых и бумажкой проклеенных очков. Сорок три года, неустанно тачая галуновский товар, на машине ли, на руках ли, глядит он из крохотного каменного оконца на нетеплые светы предутреннего городского неба, на черные облачные тени, приглушающие день. Кажется, он и не изменился нисколько, только глаза слезиться стали да колени отказываются держать. Только в том и разница, что раньше выжидал себе Степан Леонтьич кусочек счастьица, а теперь ждет, когда вынесут его отсюда ногами вперед в последний приют, за Калужскую заставу.
За всю жизнь только и нажито было Катушиным добра: зеленоватый сундучок, одному унести, да корзиночка. В сундучке покоилось ветхое белье, еще часы с продавленной крышкой, завод ключом, еще пиджачок матерчатый, еще заново подшитые сапожки. А поверх всего, чтоб не искать чужому, обиходные лежали вещи на его смертный обряд: фунт тощих панихидных свечей, миткалю и сарпинки два равных отреза, ладан в аптечной коробочке и деньги, семнадцать с полтиной, чистая прибыль катушинской жизни в рублях.
В корзинке другое хранилось. Чистенькими стопками лежали там книжки в обойных обертках с пятнами чужих, незаботливых рук. Были книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о любви, о нищете, о полынной чаше всяческого бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч, а вокруг него ютились остальные неизвестные певцы простонародных печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю обертку и собственные катушинские стишки.
Проходили внизу богатые похороны – видел Степан Леонтьич, откладывал шитье, писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле будет стоять талая весенняя вода… Май стучал в стекла первым дождем – пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют… а о чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового люда. Самому Катушину и знать: солгал ли он в стишках своих хоть раз? Он-то и приютил Сеню в своем добром и тесном сердце.
Вечером, как отужинает, мчался Сеня вверх по лестницам, на высокий, подчердачный катушинский этаж, близко к зимнему небу. Сеню обучал Катушин грамоте. Вряд ли бывало у Катушина за всю жизнь большее оживление, чем в тот вечер, когда написал Сеня первые четыре неграмотных слова. То хлопал он себя по заштопанным коленкам, то разглаживал трясущейся рукой твердую пакетную бумагу, то подносил ее к свету.
Сеня сидел тогда у окна, а за окнами затихало Зарядье и перемигивалась огнями ночь. Острые прохладные ручейки небывалого возбуждения бежали по его спине, и в скрипе оторванной железки за окном чудился ему неясный и властный зов.
– Книжки теперь бери у меня, – сказал в тот вечер Катушин. – У меня книжки тоненькие, хорошие… Я толстых не читаю, голова от них разламывается. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходишь. Банька – слабость жизни моей.
Здесь встречал Сеня и Дудина, верного катушинского друга, но столь отличного от него. Сюда же однажды привел Сеня и брата.
Пашка нелюдимым рос. У Быхалова он был на побегушках. Пашка, хромой, широкоспинный, камнеобразный, симпатиями хозяйскими не овладел.
– Ты уж больно карточкой-то не вышел. Весь народ мне разгонишь, – сказал хозяин Пашке, приведенному Брыкиным, давая для нравоучительности легкий подзатыльник. – Ты мне товар вози. Хром? Так ведь дело неспешное. Съездил раз в день, и то прибыль.
Пашке с детства жить было больно и мучительно. Пашка многое, невидное другому, видел, и потому детство казалось ему глупой нарочной обидой. Когда случилась коровья беда и односельчане били Пашку, половинку человека, Пашка молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду. Он и на мир глядел не просто – птичка летит, а облачко плывет, а береза цветет, – а так, как отражены были все эти благости в темном озере его невыплаканных, не показанных миру слез. Пашка на мир глядел исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему.