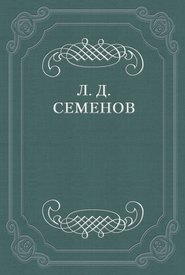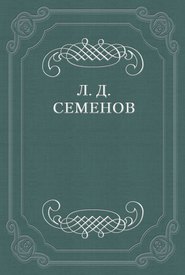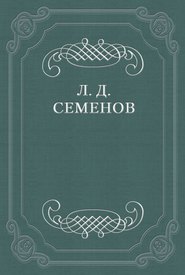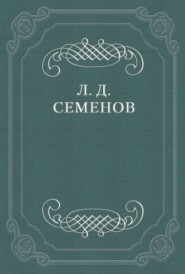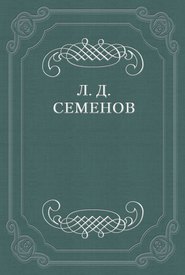По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грешный грешным
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только в начале октября узнаю, что она еще жива на земле и что она опять в Петербурге. Ее друзья за нее хлопотали. Начинаю получать письма и от нее. Но от этого не легче. Напрасно борюсь и не могу побороть предчувствия. Сон как живой передо мной, а письма идут долго. Может быть, она писала его, а теперь-то, когда получил я его, ее уже нет. А может быть, это даже и подделка. Самая дикая, глупая, мысль приходит мне в голову. Друзья за нее пишут, скрывают от меня….. Но и письма-то ее какие все страшные, жуткие. Уже не насилует она себя, уже ничем не сдерживает того, что есть….. Такого отчаяния, такого страдания и ужаса я еще ни в ком никогда не видел.
– Мы все скользим, скользим у пропасти. Ничего не знаем.
– Дорогой Л.Д., молитесь за меня, молитесь за всех.
– Я такая темная, неумелая сейчас….. Ничего не знаю, главное потеряла. Так много нехорошего, несознательного во мне…..
– Научите хоть вы, скажите слово. Вы – брат мой, старший брат мой.
– Сегодня прочла, что в один день 16 казней, почти все виселицы….. Какой ужас смерти в палачах, в судьях….. Бедные солдаты, которые всех расстреливают. Вы представьте себя таким солдатом.
– А у нас все то же….. Я мечусь, хлопочу, но дохожу до ужаса. Нет сил….. Все не тем, все ненужным кажется….. Поступила опять на медицинские курсы…
– Хочется молиться за всех. Вся жизнь всех вдруг представилась как на ладони.
– Но свет есть, есть….. Свет все-таки есть. Свет и во тьме светит….. Простите меня, не судите меня.
Она еще хлопочет обо мне. Присылает мне вещи, книги, Михайловского[15 - Присылает мне… книги, Михайловского… – Н. К. Михайловский (1842–1904) – теоретик народничества, яркий публицист и литературный критик, начиная с 1870-х годов – кумир части революционной и либеральной интеллигенции. Активно полемизировал с русскими марксистами, так что М. М. Добролюбова присылала Семенову книги, выражавшие противоположные точки зрения на принципы революционного движения.], Маркса, даже Канта…… Чтобы успокоить себя, погружаюсь в книги, ею присланные, изучаю их; но чем больше окунаюсь в них, тем больше вижу разлад свой с ними, ничему уж в них не верю. Одна только мысль: бежать и бежать к ней, пока еще не оборвалась вовсе, не изошла последними силами в отчаянии. С ней дохнуть вместе свободой, как она писала мне. На свободе раздумаем, узнаем все. Каждый миг кажется столетием, как бесконечность тянутся дни.
На другое освобождение, кроме как на бегство, не было никакой надежды. Предстоял суд по трем делам, и, кроме того, я был уже административно приговорен к ссылке в Нарымский край на 6 лет. После слышал от друзей, что, в случае моей ссылки, она сама собиралась ко мне туда.
В ноябре, в начале, меня перевели этапом из Рыльска в Курск, к суду. Бессонная ночь в арестантском вагоне, переполненном политическими, каторжниками и ссылаемыми административно в Архангельск и в Сибирь. Кровавый кошмар их рассказов о смертных казнях, которым они были свидетелями, об истязаниях на допросах, об их террористических выступлениях, о приготовлении бомб и других снарядов, счет товарищей, погибших при взрывах и погромах, потом жизнь в Курске, где я из Рыльского одиночества сразу попал в шумное политическое отделение, разгульная жизнь, я не могу найти лучшего слова для того, что тут увидел, распущенность воли, отсутствие всякой твердой почвы у всех, и знаний, и еще более обесценивание своей и чужой жизней, какой-то пир во время чумы, письма другого отделения, доходившие до нас от смертников, гимназист один, ждавший казни, просил нас прислать ему яда….. Наконец, уголовщина, от которой положительно уже невозможно было отделить идейных заключенных, то, что Чернов[16 - Чернов В.М. (1873–1952) – один из основателей и теоретиков партии эсеров, в 1917 г. министр Временного правительства, во время Второй мировой войны – участник французского Сопротивления фашистским оккупантам. В годы революционного движения боролся против «распыления революции», как называл скупку и вооруженный захват крестьянами помещичьих земель; вместо этого предлагал перераспределение земельной собственности мирным путем, через законодательную деятельность Государственной думы и позже Учредительного собрания.] тогда назвал распылением революции, – смывали окончательно последние розовые представления о ней, срывали последние еще оставшиеся цветы.
Что мне Маркс и Энгельс и Михайловский, которые говорят о строгих и неумолимых исторических процессах, умеют находить для них красивые и даже математически точные формулы. Жертвы, и только жертвы, видел я кругом этих процессов. И были для меня одинаково жертвами несчастными и тупыми и бессознательными и те солдаты, которые всех расстреливают и которые стерегли меня здесь, и те революционеры, которые меня окружали и какими хотели мы с сестрой Машей стать. Какой ужас!: мы с нею стать ими.
Верить себе, только себе. Теперь я знал это, хотя и не знал, чему это обяжет и к чему приведет.
В это же время получаю две вести из дому грустные. Умерла моя бабушка[17 - Умерла моя бабушка… – Анна Васильевна Заблоцкая-Десятовская, урожденная Грибоедова, род. 11 февраля 1817 г., скончалась 7 ноября 1906 г. (примеч. Б. Райкова).] – тихая и покорная всему в последнее время старушка. Умерла еще моя тетя родная[18 - Умерла еще моя тетя родная… – Ольга Петровна Семенова, скончалась 12 ноября 1906 г. (примеч. Б. Райкова).], очень любившая меня. Эта в цвете лет, ничем не удовлетворенная, жаждущая, ищущая….. Сколько надежд в ней погибло. Ей я успел послать еще телеграмму, что люблю ее и всегда буду любить. Но так нехорошо, так холодно простился с ней в последний раз, что страшно вспомнить, и знал ли я, что с ней больше не увижусь. Как грозное предчувствие о чем-то близком всем, как суд прозвучали обе вести.
Мы все у пропасти….. Но некогда было уже и думать об этом.
Наконец в конце ноября был суд. Все силы своей души напряг я теперь на то, чтобы быть свободным и только себе одному верящим. Решил говорить одну правду, т. е. ту внутреннюю правду, которая жила в нас, когда мы бросались в революцию. И верил, что за нее меня нельзя судить. Когда я кончил свою речь, защитник, присланный друзьями из Москвы, сказал, что ему нечего прибавить. Вызванные обвинением многочисленные свидетели-крестьяне не подтвердили взведенных на меня обвинений, и суд меня по двум, главным делам оправдал, а по третьему, за оскорбление Величества в тюрьме, приговорил к наименьшей мере наказания, к месяцу крепости, и объявил до приведения приговора в исполнение свободным. Такого благоприятного исхода суда я уж никак не ожидал. Все надежды вдруг вспыхнули вновь. Но меня из тюрьмы еще не выпустили, предстояла административная ссылка в Нарымский край. Я телеграфировал в Петербург об оправдательном приговоре, просил отмены ссылки, а сам стал замышлять бегство. Но шли дни, неделя, другая….. Целая бесконечность….. Последнее письмо от сестры Маши было от 16 ноября, то страшное, растерянное. Писала о казнях, о солдатах, о моей тете. Я не решался больше писать ей. Ждал, как решится дело. Тогда сам приеду, сам все увижу, скажу.
Наконец утром 12 декабря меня позвали в канцелярию тюрьмы и объявили, что я свободен, еще передали из Петербурга письмо от младшей сестры Маши, институтки. Она писала, что Маша была у ней, рассказывала обо мне, и вот она поэтому пишет мне о своем сочувствии и желает мне свободы. Почему же не от нее самой? Дрогнуло что-то внутри. Но, нет. Не может быть. Уж слишком велика была радость свободы. В участке, куда повели меня из тюрьмы, взяли от меня подписку о моем немедленном выезде в Курск. Я выпросил себе один день. Я уж не торопился. Покой, уверенность и мужественная решимость не торопиться, чтобы тем достойнее оказаться встречи с сестрой Машей, вдруг разом заменили прежний страх, и все тюремное показалось только слабостью. А в Курске надо было еще устроить некоторые другие дела заключенных, успевших передать со мной просьбы на волю, в том числе подготовить побег тому гимназисту, который просил у нас яду. Побег потом удался.
Из участка я поехал к знакомому присяжному поверенному, в доме которого останавливался раньше. Был уже вечер. Пошли разговоры, расспросы. За обедом, когда я сказал, что еще не тороплюсь в Петербург, вдруг водворилось молчание. Муж с женой переглянулись и сразу после обеда стали куда-то собираться. Я думал у них провести вечер и ночь, как это делал раньше, и заикнулся об этом. Но вдруг услышал холодный, как мне показалось, ответ, чтобы я сходил к Кувшинниковым, другим моим знакомым в Курске. Немного задетый этим, я терялся в догадках, что бы это значило, не нарушил ли я какие-нибудь правила партии, которою был связан с присяжным поверенным, я пошел к Кувшинниковым. Это была простая помещичья семья, состоявшая из немолодых уже мужа и жены и их детей, девочек от 17 до 5 лет, считавших меня за героя. Сам брат Кувшинников был со мною вместе в заключении в Старом Осколе, но теперь был на свободе. После всех приветствий, радости и ласк детей, во время которых и я весело заявил, что намерен погостить у них в Курске, после вечернего чая все, я не заметил как – вышли из комнаты, и я остался один на один с хозяйкой дома. Наступило молчание.
– А вы знакомы с Марьей Михайловной Д-й? – вдруг спросила она меня.
Я так и вздрогнул: откуда она знает ее имя?
– Да, знаком, – отвечал нерешительно, не зная, что будет дальше.
– А вы знаете, она ведь очень больна… – начала она.
Но я уже все вдруг понял.
– Ее нет….. От меня скрывают это. Зачем скрывают. Я давно это знаю. она вынула телеграмму. Ничего не скрывали.
– Подготовьте Леонида к страшному для него несчастью. Маша Д. скоропостижно скончалась сегодня 11-го декабря в 10 ч. утра. Руманов.
Всего только вчера….. Одного дня не дождалась меня. Боже мой. Боже. Я выбежал в другую комнату и рыдал.
* * *
Но в ту же ночь со скорым поездом выехал в Петербург. Нашел еще в себе самообладание спешно исполнить поручения заключенных. Зашел проститься к присяжному поверенному. Поблагодарил его. Кувшинников молча сопровождал меня всюду с боязнью, как мне казалось, чтобы я не сделал чего-нибудь над собой. Но мне смешна была эта боязнь. Она ушла отсюда, но я еще остался здесь. Решимость жить была окончательная. Я один исполню, чего не исполнили вместе.
– Хочется для вас жизни нужной, как мне хочется смерти нужной. – Вспомнились теперь эти ранние слова ее мне и стали теперь священным заветом ее мне. Найти эту нужную жизнь, найти форму для этой нужной жизни, для жизни Того, что мы видели в себе уже с нею как Свет.
– За вас умираю….. Ступите на каменную плиту могилы моей и идите вперед и все выше….. нашел я в Петербурге ее слова в записках, оставшихся после нее.
6
Ничего необыкновенного в ее кончине не было.
Нежная и хрупкая телом, она никогда не думала о себе, стыдилась этого. Никогда не видел ее никто сознающей свою усталость, сонной или жалующейся. Целый день могла она бегать по улицам Петербурга в хлопотах о других из одного конца города в другой, по крутым лестницам, по магазинам, по редакциям, забывая про пищу. Говорили, что такое хождение не могло не отразиться на деятельности сердца. Уже на войне заболела она. Стали появляться у ней какие-то обмороки[19 - Стали появляться у ней какие-то обмороки. – М. М. Добролюбова была больна эпилепсией.]. В Петербурге она от всех скрывала это. Всегда предчувствуя заранее приближение их, она успевала заранее уходить от всех, запираясь на ключ в своей комнате. Сама лечилась. В последний месяц ее жизни на земле все видели, как таяла ее плоть. Но так же бегала она по Петербургу, готовилась к экзаменам на медицинских курсах….. «Медицинские курсы – это мой поцелуй земле», – написала она раз подруге. «Помнишь Соню Мармеладову, как она велит Раскольникову пойти на Сенную площадь и там поцеловать грязную землю за то, что слишком высоко поставил он свою отвлеченность, свою идею. И я такая же отвлеченная… Слишком долго жила такой отвлеченной ненужной жизнью»….. Так не ценила она то неземное, что все видели в ней и на что молились в ней другие, и так велика была ее жажда здесь, на земле, сейчас же, в грязи ее каждому принесть хоть какую-нибудь радость, оказать этим любовь.
Однажды шла она с подругой по улице. Кто-то попросил у них денег. Сестра Маша сейчас же вынула и дала, и тот тут же при них пошел в казенку за вином.
– Ну вот, зачем же ты дала ему. Ты видишь, на что он просит….. – возмутилась подруга.
– Ну, что ж, и хорошо, что дала. Ты ведь подумай только, Женя, у него нет никакой другой радости в жизни, кроме этой. Пусть же хоть эта-то будет.
Но это уже почти отчаяние, это уж неверие в смысл и цель жизни, неверие из жалости к людям. Жалость наполняла ее всю; жалость ко всем слабым, несчастным и грешным была, казалось, самой душой и даже самой телесной оболочкой ее. Она складывала мучительные складки улыбки на ее лицо, она напрягала стремительно вперед весь нежный, хрупкий стан ее, точно готовый прильнуть и покрыть материнской лаской каждого, она глядела на нас из бездонно глубоких, широких, темных и строгих глаз….. Сама плоть ее была дивным дополнением к ее духу, так что перед лучистостью ее невольно опускается взор.
Но медицинские курсы ее не удовлетворяли. Мысль о деревне, о ее школе, о «ребятишках, оставленных, покинутых там на произвол судьбы», о голодных – не давала ей покоя. Что-то манило ее туда, что-то открывалось ей, может быть, новое там. Ниоткуда ее письма не дышали таким покоем и счастьем, и радостью, как оттуда. «Как хорошо мне, уютно в школе, писала она. – А кругом красота неописанная, благословенная. Поля, луга, цветы. Казалось бы, только и жить. Только горя реченька заливает всю жизнь». И как любили ее дети и вся деревня, свою Марью Михайловну. Как берегли ее. Но в Тульскую губернию ей после ареста въезд был запрещен.
В Петербурге металась, готова была чуть ли не броситься в летучку, в боевой отряд с.-р., только бы скорей сгореть. Конечно, это было у ней только жаждой жертвы: «Хочу в жертвенник пламенный обратиться»….. прорывалось у ней в письмах. «Я так жизнь люблю, так жить хочу, что от жизни отказаться, отречься готова». Так неудержимо выхлестывалась в безвременье, в вечность ее ничем неудовлетворенная здесь, бессмертная, жаждавшая жизни вечной часть. Иногда мечтала: «Хочу в Финляндию уехать, в лес, в горы, к озерам, и там обдумать свой путь, свое служение до конца».
Мысль о телесной смерти ее никогда не покидала. Что ей недолго жить здесь, она всегда знала и прямо говорила всем. Может быть, это и было то, что всего больше поражало всех в самых же первых встречах с ней. Страшно было слышать это от ее юности, не хотелось этому верить и верилось почему-то невольно. Точно ангел смерти уже стоял около нее, охранял ее от всех, как свою избранницу, и придавал любую остроту и чистоту всякой близости с нею. Страшно было иногда всякого дыхания около нее. И странные песенки слагала она про себя, все песенки тоскливые о смерти.
Ты бескровная, высокая,
Ты ходи по пятам за мной.
Выходи по прямой по дороге
Гордо выходи навстречу мне.
Упаду без слезы
На твой гробик, мой друг,
Будем в смерти мы жить,
Целоваться, любить,
И молиться и песенки петь[20 - Ты бескровная, высокая <…> И молиться и песенки петь. – В публикации З. Г. Минц и Э. Шубина далее помещен еще один фрагмент, отсутствующий в нашем источнике. Приводим его полностью:Я красива,Не спесива,И пою яБез мотива.ВетерочекЛепесточекМой, шутя, колышет,Всякий странникИ изгнанникМои песни слышит.Эти стихи, написанные М. М. Добролюбовой, воспроизведены ее младшей сестрой.].
Но в последнюю встречу мою с ней, весной этого года, она совсем не говорила о смерти, точно забыла или не хотела нарушать нашего весеннего праздника торжества жизни земной, радовалась нашею радостью. Но так же жутко, лихорадочно торопилась все сказать и сделать другим, что считала нужным. «Надо детям сказать все самое главное, нужное, что знаю, заронить….. а потом уйти от всех». Написаны в это время найденные нами последние слова в ее тетрадях.
* * *
В день 11 – го декабря утром она постучалась в дверь своей сестры и обрадовала ее своим согласием пойти с ней к доктору, к которому давно уже уговаривала ее пойти ее друзья и родные. Пока одевалась та, сестра Маша села за лекции, а старушке няне, немке, приказала приготовить ей крепкий кофе. Этот очень крепкий кофе она пила, когда чувствовала в себе приступы головной боли, о которой было известно и другим в ее семье, что она ими страдает….. Возвратившись из кухни в свою комнату, заперла дверь на крючок и, по-видимому, села за лекции. Няня долго готовила кофе, и когда налила его в чашку, услышала шум в ее комнате, как бы паденье кресла или чего-то тяжелого на пол. Подойдя с кофе к двери, нашла ее запертой. В тревоге стала звать. Но услышала в ответ, или только почудилось ей, что услышала слабый, прерывистый стон. Побежали за дворником, взломали дверь, послали за врачами….. Но уж ничто не могло вернуть к жизни ее нежное, как лепестки цветка, и подорванное тело. Родные воспрепятствовали ее вскрытию. Когда я приехал в Петербург, ее уже похоронили.
* * *
– Мы все скользим, скользим у пропасти. Ничего не знаем.
– Дорогой Л.Д., молитесь за меня, молитесь за всех.
– Я такая темная, неумелая сейчас….. Ничего не знаю, главное потеряла. Так много нехорошего, несознательного во мне…..
– Научите хоть вы, скажите слово. Вы – брат мой, старший брат мой.
– Сегодня прочла, что в один день 16 казней, почти все виселицы….. Какой ужас смерти в палачах, в судьях….. Бедные солдаты, которые всех расстреливают. Вы представьте себя таким солдатом.
– А у нас все то же….. Я мечусь, хлопочу, но дохожу до ужаса. Нет сил….. Все не тем, все ненужным кажется….. Поступила опять на медицинские курсы…
– Хочется молиться за всех. Вся жизнь всех вдруг представилась как на ладони.
– Но свет есть, есть….. Свет все-таки есть. Свет и во тьме светит….. Простите меня, не судите меня.
Она еще хлопочет обо мне. Присылает мне вещи, книги, Михайловского[15 - Присылает мне… книги, Михайловского… – Н. К. Михайловский (1842–1904) – теоретик народничества, яркий публицист и литературный критик, начиная с 1870-х годов – кумир части революционной и либеральной интеллигенции. Активно полемизировал с русскими марксистами, так что М. М. Добролюбова присылала Семенову книги, выражавшие противоположные точки зрения на принципы революционного движения.], Маркса, даже Канта…… Чтобы успокоить себя, погружаюсь в книги, ею присланные, изучаю их; но чем больше окунаюсь в них, тем больше вижу разлад свой с ними, ничему уж в них не верю. Одна только мысль: бежать и бежать к ней, пока еще не оборвалась вовсе, не изошла последними силами в отчаянии. С ней дохнуть вместе свободой, как она писала мне. На свободе раздумаем, узнаем все. Каждый миг кажется столетием, как бесконечность тянутся дни.
На другое освобождение, кроме как на бегство, не было никакой надежды. Предстоял суд по трем делам, и, кроме того, я был уже административно приговорен к ссылке в Нарымский край на 6 лет. После слышал от друзей, что, в случае моей ссылки, она сама собиралась ко мне туда.
В ноябре, в начале, меня перевели этапом из Рыльска в Курск, к суду. Бессонная ночь в арестантском вагоне, переполненном политическими, каторжниками и ссылаемыми административно в Архангельск и в Сибирь. Кровавый кошмар их рассказов о смертных казнях, которым они были свидетелями, об истязаниях на допросах, об их террористических выступлениях, о приготовлении бомб и других снарядов, счет товарищей, погибших при взрывах и погромах, потом жизнь в Курске, где я из Рыльского одиночества сразу попал в шумное политическое отделение, разгульная жизнь, я не могу найти лучшего слова для того, что тут увидел, распущенность воли, отсутствие всякой твердой почвы у всех, и знаний, и еще более обесценивание своей и чужой жизней, какой-то пир во время чумы, письма другого отделения, доходившие до нас от смертников, гимназист один, ждавший казни, просил нас прислать ему яда….. Наконец, уголовщина, от которой положительно уже невозможно было отделить идейных заключенных, то, что Чернов[16 - Чернов В.М. (1873–1952) – один из основателей и теоретиков партии эсеров, в 1917 г. министр Временного правительства, во время Второй мировой войны – участник французского Сопротивления фашистским оккупантам. В годы революционного движения боролся против «распыления революции», как называл скупку и вооруженный захват крестьянами помещичьих земель; вместо этого предлагал перераспределение земельной собственности мирным путем, через законодательную деятельность Государственной думы и позже Учредительного собрания.] тогда назвал распылением революции, – смывали окончательно последние розовые представления о ней, срывали последние еще оставшиеся цветы.
Что мне Маркс и Энгельс и Михайловский, которые говорят о строгих и неумолимых исторических процессах, умеют находить для них красивые и даже математически точные формулы. Жертвы, и только жертвы, видел я кругом этих процессов. И были для меня одинаково жертвами несчастными и тупыми и бессознательными и те солдаты, которые всех расстреливают и которые стерегли меня здесь, и те революционеры, которые меня окружали и какими хотели мы с сестрой Машей стать. Какой ужас!: мы с нею стать ими.
Верить себе, только себе. Теперь я знал это, хотя и не знал, чему это обяжет и к чему приведет.
В это же время получаю две вести из дому грустные. Умерла моя бабушка[17 - Умерла моя бабушка… – Анна Васильевна Заблоцкая-Десятовская, урожденная Грибоедова, род. 11 февраля 1817 г., скончалась 7 ноября 1906 г. (примеч. Б. Райкова).] – тихая и покорная всему в последнее время старушка. Умерла еще моя тетя родная[18 - Умерла еще моя тетя родная… – Ольга Петровна Семенова, скончалась 12 ноября 1906 г. (примеч. Б. Райкова).], очень любившая меня. Эта в цвете лет, ничем не удовлетворенная, жаждущая, ищущая….. Сколько надежд в ней погибло. Ей я успел послать еще телеграмму, что люблю ее и всегда буду любить. Но так нехорошо, так холодно простился с ней в последний раз, что страшно вспомнить, и знал ли я, что с ней больше не увижусь. Как грозное предчувствие о чем-то близком всем, как суд прозвучали обе вести.
Мы все у пропасти….. Но некогда было уже и думать об этом.
Наконец в конце ноября был суд. Все силы своей души напряг я теперь на то, чтобы быть свободным и только себе одному верящим. Решил говорить одну правду, т. е. ту внутреннюю правду, которая жила в нас, когда мы бросались в революцию. И верил, что за нее меня нельзя судить. Когда я кончил свою речь, защитник, присланный друзьями из Москвы, сказал, что ему нечего прибавить. Вызванные обвинением многочисленные свидетели-крестьяне не подтвердили взведенных на меня обвинений, и суд меня по двум, главным делам оправдал, а по третьему, за оскорбление Величества в тюрьме, приговорил к наименьшей мере наказания, к месяцу крепости, и объявил до приведения приговора в исполнение свободным. Такого благоприятного исхода суда я уж никак не ожидал. Все надежды вдруг вспыхнули вновь. Но меня из тюрьмы еще не выпустили, предстояла административная ссылка в Нарымский край. Я телеграфировал в Петербург об оправдательном приговоре, просил отмены ссылки, а сам стал замышлять бегство. Но шли дни, неделя, другая….. Целая бесконечность….. Последнее письмо от сестры Маши было от 16 ноября, то страшное, растерянное. Писала о казнях, о солдатах, о моей тете. Я не решался больше писать ей. Ждал, как решится дело. Тогда сам приеду, сам все увижу, скажу.
Наконец утром 12 декабря меня позвали в канцелярию тюрьмы и объявили, что я свободен, еще передали из Петербурга письмо от младшей сестры Маши, институтки. Она писала, что Маша была у ней, рассказывала обо мне, и вот она поэтому пишет мне о своем сочувствии и желает мне свободы. Почему же не от нее самой? Дрогнуло что-то внутри. Но, нет. Не может быть. Уж слишком велика была радость свободы. В участке, куда повели меня из тюрьмы, взяли от меня подписку о моем немедленном выезде в Курск. Я выпросил себе один день. Я уж не торопился. Покой, уверенность и мужественная решимость не торопиться, чтобы тем достойнее оказаться встречи с сестрой Машей, вдруг разом заменили прежний страх, и все тюремное показалось только слабостью. А в Курске надо было еще устроить некоторые другие дела заключенных, успевших передать со мной просьбы на волю, в том числе подготовить побег тому гимназисту, который просил у нас яду. Побег потом удался.
Из участка я поехал к знакомому присяжному поверенному, в доме которого останавливался раньше. Был уже вечер. Пошли разговоры, расспросы. За обедом, когда я сказал, что еще не тороплюсь в Петербург, вдруг водворилось молчание. Муж с женой переглянулись и сразу после обеда стали куда-то собираться. Я думал у них провести вечер и ночь, как это делал раньше, и заикнулся об этом. Но вдруг услышал холодный, как мне показалось, ответ, чтобы я сходил к Кувшинниковым, другим моим знакомым в Курске. Немного задетый этим, я терялся в догадках, что бы это значило, не нарушил ли я какие-нибудь правила партии, которою был связан с присяжным поверенным, я пошел к Кувшинниковым. Это была простая помещичья семья, состоявшая из немолодых уже мужа и жены и их детей, девочек от 17 до 5 лет, считавших меня за героя. Сам брат Кувшинников был со мною вместе в заключении в Старом Осколе, но теперь был на свободе. После всех приветствий, радости и ласк детей, во время которых и я весело заявил, что намерен погостить у них в Курске, после вечернего чая все, я не заметил как – вышли из комнаты, и я остался один на один с хозяйкой дома. Наступило молчание.
– А вы знакомы с Марьей Михайловной Д-й? – вдруг спросила она меня.
Я так и вздрогнул: откуда она знает ее имя?
– Да, знаком, – отвечал нерешительно, не зная, что будет дальше.
– А вы знаете, она ведь очень больна… – начала она.
Но я уже все вдруг понял.
– Ее нет….. От меня скрывают это. Зачем скрывают. Я давно это знаю. она вынула телеграмму. Ничего не скрывали.
– Подготовьте Леонида к страшному для него несчастью. Маша Д. скоропостижно скончалась сегодня 11-го декабря в 10 ч. утра. Руманов.
Всего только вчера….. Одного дня не дождалась меня. Боже мой. Боже. Я выбежал в другую комнату и рыдал.
* * *
Но в ту же ночь со скорым поездом выехал в Петербург. Нашел еще в себе самообладание спешно исполнить поручения заключенных. Зашел проститься к присяжному поверенному. Поблагодарил его. Кувшинников молча сопровождал меня всюду с боязнью, как мне казалось, чтобы я не сделал чего-нибудь над собой. Но мне смешна была эта боязнь. Она ушла отсюда, но я еще остался здесь. Решимость жить была окончательная. Я один исполню, чего не исполнили вместе.
– Хочется для вас жизни нужной, как мне хочется смерти нужной. – Вспомнились теперь эти ранние слова ее мне и стали теперь священным заветом ее мне. Найти эту нужную жизнь, найти форму для этой нужной жизни, для жизни Того, что мы видели в себе уже с нею как Свет.
– За вас умираю….. Ступите на каменную плиту могилы моей и идите вперед и все выше….. нашел я в Петербурге ее слова в записках, оставшихся после нее.
6
Ничего необыкновенного в ее кончине не было.
Нежная и хрупкая телом, она никогда не думала о себе, стыдилась этого. Никогда не видел ее никто сознающей свою усталость, сонной или жалующейся. Целый день могла она бегать по улицам Петербурга в хлопотах о других из одного конца города в другой, по крутым лестницам, по магазинам, по редакциям, забывая про пищу. Говорили, что такое хождение не могло не отразиться на деятельности сердца. Уже на войне заболела она. Стали появляться у ней какие-то обмороки[19 - Стали появляться у ней какие-то обмороки. – М. М. Добролюбова была больна эпилепсией.]. В Петербурге она от всех скрывала это. Всегда предчувствуя заранее приближение их, она успевала заранее уходить от всех, запираясь на ключ в своей комнате. Сама лечилась. В последний месяц ее жизни на земле все видели, как таяла ее плоть. Но так же бегала она по Петербургу, готовилась к экзаменам на медицинских курсах….. «Медицинские курсы – это мой поцелуй земле», – написала она раз подруге. «Помнишь Соню Мармеладову, как она велит Раскольникову пойти на Сенную площадь и там поцеловать грязную землю за то, что слишком высоко поставил он свою отвлеченность, свою идею. И я такая же отвлеченная… Слишком долго жила такой отвлеченной ненужной жизнью»….. Так не ценила она то неземное, что все видели в ней и на что молились в ней другие, и так велика была ее жажда здесь, на земле, сейчас же, в грязи ее каждому принесть хоть какую-нибудь радость, оказать этим любовь.
Однажды шла она с подругой по улице. Кто-то попросил у них денег. Сестра Маша сейчас же вынула и дала, и тот тут же при них пошел в казенку за вином.
– Ну вот, зачем же ты дала ему. Ты видишь, на что он просит….. – возмутилась подруга.
– Ну, что ж, и хорошо, что дала. Ты ведь подумай только, Женя, у него нет никакой другой радости в жизни, кроме этой. Пусть же хоть эта-то будет.
Но это уже почти отчаяние, это уж неверие в смысл и цель жизни, неверие из жалости к людям. Жалость наполняла ее всю; жалость ко всем слабым, несчастным и грешным была, казалось, самой душой и даже самой телесной оболочкой ее. Она складывала мучительные складки улыбки на ее лицо, она напрягала стремительно вперед весь нежный, хрупкий стан ее, точно готовый прильнуть и покрыть материнской лаской каждого, она глядела на нас из бездонно глубоких, широких, темных и строгих глаз….. Сама плоть ее была дивным дополнением к ее духу, так что перед лучистостью ее невольно опускается взор.
Но медицинские курсы ее не удовлетворяли. Мысль о деревне, о ее школе, о «ребятишках, оставленных, покинутых там на произвол судьбы», о голодных – не давала ей покоя. Что-то манило ее туда, что-то открывалось ей, может быть, новое там. Ниоткуда ее письма не дышали таким покоем и счастьем, и радостью, как оттуда. «Как хорошо мне, уютно в школе, писала она. – А кругом красота неописанная, благословенная. Поля, луга, цветы. Казалось бы, только и жить. Только горя реченька заливает всю жизнь». И как любили ее дети и вся деревня, свою Марью Михайловну. Как берегли ее. Но в Тульскую губернию ей после ареста въезд был запрещен.
В Петербурге металась, готова была чуть ли не броситься в летучку, в боевой отряд с.-р., только бы скорей сгореть. Конечно, это было у ней только жаждой жертвы: «Хочу в жертвенник пламенный обратиться»….. прорывалось у ней в письмах. «Я так жизнь люблю, так жить хочу, что от жизни отказаться, отречься готова». Так неудержимо выхлестывалась в безвременье, в вечность ее ничем неудовлетворенная здесь, бессмертная, жаждавшая жизни вечной часть. Иногда мечтала: «Хочу в Финляндию уехать, в лес, в горы, к озерам, и там обдумать свой путь, свое служение до конца».
Мысль о телесной смерти ее никогда не покидала. Что ей недолго жить здесь, она всегда знала и прямо говорила всем. Может быть, это и было то, что всего больше поражало всех в самых же первых встречах с ней. Страшно было слышать это от ее юности, не хотелось этому верить и верилось почему-то невольно. Точно ангел смерти уже стоял около нее, охранял ее от всех, как свою избранницу, и придавал любую остроту и чистоту всякой близости с нею. Страшно было иногда всякого дыхания около нее. И странные песенки слагала она про себя, все песенки тоскливые о смерти.
Ты бескровная, высокая,
Ты ходи по пятам за мной.
Выходи по прямой по дороге
Гордо выходи навстречу мне.
Упаду без слезы
На твой гробик, мой друг,
Будем в смерти мы жить,
Целоваться, любить,
И молиться и песенки петь[20 - Ты бескровная, высокая <…> И молиться и песенки петь. – В публикации З. Г. Минц и Э. Шубина далее помещен еще один фрагмент, отсутствующий в нашем источнике. Приводим его полностью:Я красива,Не спесива,И пою яБез мотива.ВетерочекЛепесточекМой, шутя, колышет,Всякий странникИ изгнанникМои песни слышит.Эти стихи, написанные М. М. Добролюбовой, воспроизведены ее младшей сестрой.].
Но в последнюю встречу мою с ней, весной этого года, она совсем не говорила о смерти, точно забыла или не хотела нарушать нашего весеннего праздника торжества жизни земной, радовалась нашею радостью. Но так же жутко, лихорадочно торопилась все сказать и сделать другим, что считала нужным. «Надо детям сказать все самое главное, нужное, что знаю, заронить….. а потом уйти от всех». Написаны в это время найденные нами последние слова в ее тетрадях.
* * *
В день 11 – го декабря утром она постучалась в дверь своей сестры и обрадовала ее своим согласием пойти с ней к доктору, к которому давно уже уговаривала ее пойти ее друзья и родные. Пока одевалась та, сестра Маша села за лекции, а старушке няне, немке, приказала приготовить ей крепкий кофе. Этот очень крепкий кофе она пила, когда чувствовала в себе приступы головной боли, о которой было известно и другим в ее семье, что она ими страдает….. Возвратившись из кухни в свою комнату, заперла дверь на крючок и, по-видимому, села за лекции. Няня долго готовила кофе, и когда налила его в чашку, услышала шум в ее комнате, как бы паденье кресла или чего-то тяжелого на пол. Подойдя с кофе к двери, нашла ее запертой. В тревоге стала звать. Но услышала в ответ, или только почудилось ей, что услышала слабый, прерывистый стон. Побежали за дворником, взломали дверь, послали за врачами….. Но уж ничто не могло вернуть к жизни ее нежное, как лепестки цветка, и подорванное тело. Родные воспрепятствовали ее вскрытию. Когда я приехал в Петербург, ее уже похоронили.
* * *
Другие электронные книги автора Леонид Дмитриевич Семенов
Проклятие




 4.67
4.67
Великий утешитель




 4.67
4.67
VAE VICTIS!




 4.5
4.5
Размышления о Будде




 4.67
4.67
О смерти Чехова




 4.5
4.5
Городовые




 4.5
4.5