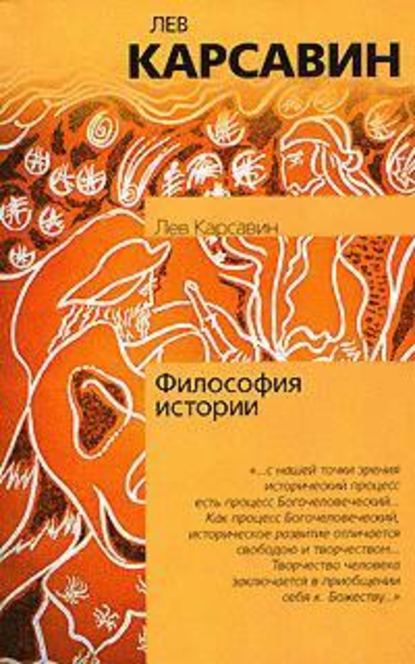По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Объектом изучения для историка всегда является живая развивающаяся личность, и в этом смысле история есть преимущественная «наука о жизни». Изучая развитие данного конкретного индивидуума, известное ему лишь в некоторых разъединенных проявлениях, историк необходимо подымается к личности индивидуума, как всеединству, и, исходя из нее, понимает и связывает эти проявления как ее моменты. Не поддающаяся определению всеединая в своем развитии личность – «исторически-общее»; моменты ее – «примеры» или «повторения» исторически-общего. Но они важны историку и как символы общего и как единичные, неповторимые его индивидуализации. Историку непосредственно даны и специфичность каждого из них, и символизируемое им, и проистекание его из общего. Само исторически-общее есть всеединое общее, индивидуализуемое в любом (и в данном) моменте. Как проявляющееся в каждом своем моменте, мы можем его назвать «общим», даже – «законом» моментов, поскольку оно для всех их специфично-формально. Но нам нет особенной нужды в таком его наименовании и, тем более, в отвлеченной его формулировке. Связь его моментов (оно само как связь, как всеединство их) дана нам непосредственно. По известным уже нам моментам его мы предугадываем другие моменты никак не благодаря отвлечению, но скорее – благодаря отсутствию его. Для объяснения целесообразной деятельности личности опять-таки нам не надо отвлекать «общее» и противопоставлять его моменты, поскольку мы пренебрегаем неисторическим бытием, внешним миром. Поскольку же мы принимаем внешний мир во внимание, сосредоточение на общем неизбежно. Но тут мы сталкиваемся с проблемою отношения между историей и природой и в пределах философии истории выхода указать не можем. Во всяком случае, он не в отрицании исторического.
Для объяснения индивидуального развития необходимо (§ 34) во всеединой стяженной личности найти превышающую ее индивидуальную ограниченность всеединую личность, т. е. как-то и отличить индивидуальное от индивидуализирующегося в нем «общего», «второго общего». Это же «второе общее» понадобится нам и тогда, когда мы встанем перед проблемою взаимодействия индивидуумов. Таким образом, наряду с «первым общим», всеединством своих моментов и моментом высшей всеединой личности, обнаруживается «второе общее», моментом которого является «первое». Поскольку «второе общее» усматривается и обособляется нами для объяснения изучаемой нами конкретной индивидуальности, мы непосредственно усматриваем его становление в ее моментах. Нам нет необходимости точно отличать его от «первого общего» именно в силу непосредственности его обнаружений. И все же нам надо понять «первое общее» как его момент, т. е. усмотреть «второе» как превышающее «первое» и, следовательно, их различать. Мы находим «второе» в «первом», в моментах «первого», но не только в нем и в них. Наше знание будет полным, если мы все моменты «первого», все «первое» поймем и как индивидуализацию «второго» (хотя практически нам нужно «второе» только для понимания некоторых моментов «первого»). Но само отличение «второго» от «первого», познание «второго», покоится на усмотрении его и вне «первого». Поэтому для объяснения данного индивидуального развития достаточно установить, что в «первом» есть «второе», в нем индивидуализирующееся, т. е. что «второе» есть и вне «первого» и обладает объясняющею свою индивидуализацию специфичностью. Тогда «второе общее» обнаружит свою дедуцирующую силу вполне, в большей мере, чем любой закон естествознания, и тем не менее, не будет внешне отграничено от «первого», от его моментов и точно определено за гранями «первого». И опять-таки – для объяснения индивидуального развития точная формулировка его не необходима.
Однако историк стремится к полноте знания. Познав с возможною полнотою данное индивидуальное развитие, он сосредоточивает свое внимание на «втором общем». До сих пор он изучал конкретного индивидуума, по отношению к которому «второе общее» выполняло роль закона. Теперь он изучает само «второе общее», изучает так же, как изучал «первое» или индивидуума. «Второе общее» для него уже не «закон», не вспомогательное понятие, но – живая коллективная личность, конкретное всеединство. Ему даны разрозненные, «случайные» ее индивидуализации. По ним он познает ее, от них и в них. Естественно он может стремиться и к конкретности познания и к некоторой общности его. Последнее неизбежно при изучении более или менее многообразно актуализировавшей себя коллективной личности. Поневоле приходится ограничивать себя главными, наиболее характерными ее обнаружениями, отвлекаться от их конкретности к их символичности, брать их в той мере, в какой они достаточны для раскрытия природы и общего направления развивающейся коллективной личности. И само собой разумеется, для понимания и объяснения ее придется вновь обратиться к высшим личностям, индивидуализирующимся в ней.
В таком виде представляется нам процесс исторического познания. Идеальная цель его – познавательное качествование всеединого человека как в единстве его, так и во всех его моментах. Практически историческое познание ограничивается тою либо иною историческою индивидуальностью, как стяженным всеединством своих моментов, причем моменты познаются и в специфичности и в символичности своей, а высшие исторические индивидуальности выполняют роль дедуцирующих ее «законов» или «общих» понятий, раскрывая непрерывность, но не требуя точного их определения. Для обоснования исторического знания необходимо признать развитую нами теорию всеединства и достоверность стяженного знания. Стяженность же знания есть и его несовершенство, несовершенство самого исторического бытия. В силу стяженности своей историческое знание не только ограничено, но и символично и, не будучи в состоянии исчерпать полноту даже малейшего момента всеединства, лишено возможности точно определять свои объекты и точно их различать. Историческое знание как бы где-то посередине: между разъединенностью и единством, не достигая вполне ни того ни другого и, следовательно, не достигая всеединства. В этом его слабость, но в этом и его преимущество, ибо, благодаря «срединности» своей, оно обладает непосредственно данною непрерывностью бытия.
Для полного уяснения природы исторического вообще и того, что можно назвать общим историческим понятием, в частности, необходимо помнить о своеобразном отношении между познаваемой и свободно созидающей себя исторической действительностью (ср. § 32). С нашей точки зрения, это не две действительности, а – одна в двух своих качествованиях. Субъект исторического познания то же, что субъект исторического творчества. Познание мною исторического субъекта есть мое соучастие в его самопознании, индивидуализация этого самопознания. Познание мною его самораскрытия, его деятельности есть мое соучастие в этом ее самораскрытии. Но и обратно – всякая деятельность индивидуума есть индивидуализация всеединой деятельности исторического субъекта, которая не перестает быть деятельностью от того, что ограничивает себя как только познавательную. Анализ взаимодействия двух индивидуумов позволяет установить, что 1) оба они в действовании своем являются моментами высшей личности, 2) каждый из них, «воздействуя на другого», утверждает себя путем вытеснения или поглощения другого, т. е. каждый и утверждает себя в бытии или жизни и погибает в самоутверждении другого, 3) оба, последовательно или сосуществуя, каждый по-своему, индивидуализируют двуединое действие, вне или, вернее, – без их индивидуализаций не существующее (ср. § 11). Таким образом раскрывается в связи с высшею личностью и понятие индивидуальной свободы и умаление его в понятие свободы выбора (liberum arbitrii). Мотивировка (и, следовательно, рационализация) деятельности индивидуума воздействием на него извне оказывается реальною недостаточностью в опознании его двуединства с воздействующим: двуединство воспринимается только как раздвоенность, а высшая индивидуальность совсем не воспринимается. Выясняется и смысл чувств причинения или испытывания насилия. Первое – ограниченное самоутверждение; второе – отрицание самоотдачи.[51 - Более детальное развитие и обоснование этого учения см. в моей статье «О свободе» – «Мысль», № 1. Петербург, 1921.]
Когда вместо индивидуума того же порядка мы берем в качестве второго члена взаимодействия высшую индивидуальность, дело по существу не меняется. Воздействие высшей индивидуальности на низшую, в конце концов – на индивидуума, не должно пониматься по типу механического толчка. Высшая индивидуальность не отделена от низших: она в них и не без них. Ее воздействие на низшую не что иное, как индивидуализация ее действия в низшей и низшею. Если бы низшая «не хотела» индивидуализировать, индивидуализации бы и не было. Но если низшая «хочет», она лишь специфицирует действие высшей, которая в ней хочет. Ей кажется, что она творит из себя, потому что она не отделяет себя от высшей, считая ее своим не только в спецификации, (в чем она, до известной степени, права, так как сама она есть и высшая личность). Ей кажется, что воля высшей личности ее принуждает, потому что, будучи и этою высшей личностью в ее стяженности, она стяженно качествует и другими индивидуализациями данного действия высшей личности. По тому же самому основанию низшая личность сознает свое действие не только как свое, но и как индивидуализируемое в других подобных ей личностях высшею, и сознает его как воздействие на высшую (§ 32).
Деятельность исторического субъекта и всех его индивидуализаций целесообразна. Но цель лежит не во вне. Цель – смысл свободно развертывающейся деятельности; она актуализируется в этой деятельности и как эта деятельность, развивается от стяженности в смутном предвосхищении до ограниченной осуществленности. Здесь особенно важно помнить о соотношении временности и всевременности, с одной стороны, и об усовершенности всеединства, как идеале его, с другой. Всякая целесообразная деятельность исторической индивидуальности не что иное, как ее усовершение или умаление, приближение к ее идеалу-цели или удаление от него. Если мне кажется, что я стремлюсь к некоторому иному состоянию моего народа, я прав в том смысле, что я индивидуализирую его всеединое стремление, и не должен забывать о себе, как стяженном его всеединстве, т. е. не должен отожествлять под общим термином «я» себя ограниченного с собою высшим. На недостаточном понимании этого и покоятся многие мнимые проблемы философии истории (например – теория прогресса) и ложные «методологии общественной деятельности».
36
Представим теперь себе наибольшее умаление всеединства как наименьшее его единство. Всякому не то что читавшему Канта, а просто немного способному философски размышлять человеку ясно: полного отсутствия единства допустить мы не можем без признания, что совсем ничего нет. Если нечто существует, существует и единство, конституирующее это нечто, т. е., говоря точнее, существует умаленное всеединство. Каковым же должно быть наиболее умаленное всеединство?
Как бы мы ни умаляли его, в нем, пока оно еще существует, должны быть все его моменты и оно само, как некоторое, хотя и наималейшее единство их. Умалив до возможного предела момент всеединства, мы исключим из него всякую многокачественность (тогда бы он был всеединством) и оставим за ним лишь то, что он – «этот» момент, отличный от всех прочих. Момент превратится, умалится как бы в самое начальное мгновение своего бытия, в самый первый, еле слышный свой «писк». В нем есть его исконная специфичность, но мы постараемся устранить и ее. Мы сможем сделать это, исходя из самого принципа всеединства, благодаря чему момент явится для нас «определяемым», «конституируемым» силою всеединства, как единства моментов, и уже не свободным (ср. § 19). Таким образом, мы получим совокупность одинаковых «субстанциальных» или «мировых точек». Ни одна из них не есть вместе с тем и другая, все исключают друг друга, и каждая лишь бесконечно-малая потенция всеединства. Ни одна еще не начала качествовать, становиться, и потому все они могут сосуществовать, и даже должны сосуществовать, ибо иначе будет не умаленное, а усеченное всеединство, и мы, умаляя его, не сохраним даже его множественности.[52 - Умаление всеединства со стороны его множественности приводит к абсолютной потенции.] Но у нас осталась совокупность всех точек, т. е. и их единство. В чем же это единство?
Единство совокупности всех мировых точек прежде всего – принцип момента (формально-общее), как бы единство, «повторенное» всеми точками. Во-вторых, единство – принцип множества точек и, следовательно, их взаимоотношение или система. Эта система не может быть конституирована ни каждою точкою в отдельности, ни всеми ими вместе, ибо в одной точке ее нет (в одной точке есть лишь место ее в системе), а все точки систему уже предполагают. И эта система вне точек, ибо даже «место» каждой точки не внутри ее, а вне, из нее, невыводимо (§ 32).
Единство как система есть взаимоотношение множества точек, но не одна из них и не все они вместе. Оно вне их и этим определено. Но какие взаимоотношения точек мыслимы в таком умаленном всеединстве, в системе точек? Система должна созидать отдельность точки от всех остальных, и притом не принимая во внимание специфической качественности каждой, ибо специфичность точек мы признали уже дальнейшим периодом развития всеединства, признаком меньшей его умаленности. Система должна установить, что каждая точка не есть ни одна из других, установить внеположность ее всем прочим и притом однородную для всех. Это достижимо, если всепространственность, ясная в историческом бытии, умаляется в пространственность, т. е., сохраняя внеположность двух моментов, утрачивает их единство, оставляет только единство системы. Тогда всякая точка отделима от всех прочих и определима. Если же при этом мы не соглашаемся на «усечение» всеединства, т. е. на появление и исчезновение точки, мы должны самое всевременность выразить не в умалении ее, а в ее отожествлении с пространством. Таким образом, мы придем к тому понятию мира, которое развито Германом Минковским.
Однако, в мире Минковского отсутствует существенный момент всеединства, который не может исчезнуть даже при предельном умалении. Если бы мы знали точки пересечения всех «мировых линий», мы не исчерпали бы специфической качественности их распределения. – Как ни умалять всеединство, раз сохранены все его моменты, сохраняются и частные всеединства, соответствующие коллективным индивидуальностям в истории. Какими должны быть частные всеединства в умаленном до системы множества всеединстве? Очевидно, они не могут быть такими же мировыми точками, как последние единицы, и не должны обладать качественною отличностью. Они, как мы знаем, конкретные всеединства своих индивидуализации. Следовательно, они должны предстать в качестве «пучков точек», «узлов» их или «частных систем точек». Каждая подобная система отличается от других не конкретным содержанием своим: все точки одинаковы и, поскольку введена четвертая координата «t», взаимно заменимы. Она отличается как система, т. е. принципом распределения в себе точек. Поскольку мы относим все эти системы к высшей, мы возвращаемся к уже установленным принципам систематизирования. Но точно так же, как однозначно определена каждая мировая точка, однозначно определена и каждая мировая система. Это значит, что принцип строения ее нечто только ей присущее, ею добавляемое в высшую систему, не выводимое, хотя объяснимое из высшей системы данное.
Вообразив такое умаленное всеединство, мы поставим вопрос о том, какую роль в нем должны играть общие понятия и какими отличительными чертами эти понятия должны характеризоваться. Надо только предварительно заметить, что, согласно сказанному, определение всякой системы по отношению к другим системам ее же порядка ничем не отличается от определения мировой точки, но определение точки по отношению к ней и ее по отношению к высшим системам требует дополнительных моментов. Оно невыполнимо без меры и числа.
Общее понятие в нашем воображаемом мире, конечно, есть система. Оно отделимо и отделено от содержимых им элементов или точек, как отвлеченное бытие от конкретного. Оно выражается так, что сохраняет абсолютную внеположность своих элементов и, естественно рассматриваемое как их соотношение или связь, позволяет от присутствия некоторых заключать к присутствию остальных по формуле: «если… то…». Для него типична условная форма. Равным образом, в пределах временного течения, при безразличии для него «протекающих» через него элементов, оно отличается вневременностью, т. е. «повторяемостью». Признак всевременности должен отпасть ввиду «безразличности» «протекающих» через систему точек. И, очевидно, оно лишь в том случае может быть отграничено от других общих понятий его же порядка, если характеризовано исключающим их образом. Оно должно быть определено возможно точным способом, мерою и числом, мерою ли и числом входящих в него элементов или (что при «безразличности» их лучше) мерою и числом, выражающими их соотношения. Без точности определения в данном случае нельзя отличить одно общее понятие от другого, нельзя отграничить его и от высшего. При этом точно определенное высшее понятие объясняет и обосновывает низшее. Ведь оно дает первичную связь элементов, на которой покоится низшее, и все низшие понятия данного порядка конституируются (ср. § 34).
Мне представляется очень существенным отметить смысл и значение точности как единственного средства познания общего и высшего в умаленном всеединстве. При отсутствии точности общее становится здесь нереальным, предположительным. Без нее не отличить случайно повторяющегося сосуществования элементов от единственной, т. е. необходимой, их связи, не выделить общего, ибо качественное его своеобразие познается (и дано) в смутной форме, а диалектичность и совсем отсутствует. Ведь необходимо познать именно эту связь, именно этих точек, которые (и связь и точки) проявляются («повторяются») в бесчисленном количестве случаев.
Вполне понятно, что и всякое представление о будущем в умаленном всеединстве должно отличаться тем же тяготением к точности. Если мы хотим воздействовать на такое всеединство, на систему разъединенного множества, нам необходимо точно выразить желанное для нас его состояние и возможный к нему переход. Мы знаем – воздействие наше на высшую индивидуальность есть ее индивидуализующаяся в нас деятельность. Воздействуя на умаленное всеединство, высшая индивидуальность, и в себе и в нас, должна или познавать и его состояние и изменение этого состояния в точных определениях или отказаться от всякого на него воздействия.
При всем значении сжато намеченной сейчас методологии познания и воздействия, следует не упускать из виду ее саморазрушительные тенденции. – Исходя из разъединенного множества одинаковых элементов, она влечет к отрицанию их значения и даже бытия. Сами элементы остаются непознаваемыми – познание всецело сосредоточивается на системе их отношений; и в конце концов мы стоим перед угрозою утверждать систему отношений, отрицая то, что друг к другу относится, или выводя соотносящееся из отвлеченного «отношения». С другой стороны, исходя из разъединенности или прерывности, мысль неизбежно приходит и к отрицанию самой системы как единства. Она словно стремится завершить умаление всеединства в полной его гибели.
Необходимо признать, что рассмотренным методом мы в состоянии, самое большее, констатировать моменты и их систему, но не в состоянии объяснить и обосновать ни их ни ее. Получаемое нами знание даже не символично. Оно дает знаки и предоставляет раскрывать их смысл каким-нибудь иным образом. А смысл этот раскрыть необходимо, потому что иначе никак не объяснить ни объекта знания, ни содержания, ни субъекта его.
Мы умышленно дали некоторую воображаемую картину. Она лучше, нам кажется, подводит к уразумению естествознания, освобождая от обязывающих характеристик и определений. Мы a priori устанавливаем некоторые тенденции умаления (вполне реального) всеединства, тенденции, обнаруживающиеся как характерные для современного естествознания. Конечно, наряду с этими в нем есть и другие, занимающие промежуточное положение между априорно нами охарактеризованными и историческими. Здесь обнаруживаются свои уклоны и недостаточности. Так в учениях, объемлющих органическое развитие, выступают обоготворение системы, превращаемой в метафизическую силу, и попытки устранить пространственно-материальное бытие (§ 2). Но нам всего этого в данной связи касаться не надо. Единственная наша цель – выяснить характер исторического и устранить возможные недоразумения намеком на уясняющий их путь. При этом во всем сказанном нет ни малейшей мысли о замене естествознания историческим методом. Больше того – возможность точной фиксации моментов является преимуществом некоторых наук о природе, истории эмпирической навсегда недоступным. Однако отсюда не следует, что методы точного естествознания (за которые оно расплачивается недостаточностью в другом отношении) применимы к историческому бытию. История может достичь точности, только усовершив себя самое (§ 32). В неусовершенности своей она так же далека от полноты знания, как и науки о природе, только по-иному. История несовершенно выражает целостное бытие, т. е. усовершенное; она познает, объясняет и обосновывает познаваемое. Точное естествознание только отображает умаленность бытия и принуждено, если не хочет стать плохою метафизикой, предоставить объяснение и обоснование философии.
В связи с этим чрезвычайно важно освободиться от фетишизма точности, как мы уже освобождаемся от фетишизма материальной стороны культуры. Необходимо отдать себе отчет в том, почему и зачем естествознанию нужна точность, почему и зачем точность связана с техникой, как планомерным воздействием на природу. И тогда сразу же обнаружится, что истории точность совсем не нужна или что у нее есть своя точность. – Без измерений, без резкого разграничивания она усматривает связь явлений и личностей; и только при отсутствии прерывности (т. е. и «точности») может познавать развитие. Эмпирическая точность – признак ограниченности сферы бытия, к которой она применима, и сферы знания, для которой она необходима, хотя возможность точности в эмпирии и покоится на онтологическом факте, историческому знанию недоступном. Точно определимо лишь неподвижное, застывшее, мертвое. И самые точные наши определения покоятся на игнорировании медленного развития, отожествляемого с неподвижностью. Очень показательно, что усиленные занятия «точными науками» часто не образовывают, а ограничивают человека, делают его мышление примитивным и непригодным для жизни и деятельности. Иногда эта примитивность прямо пропорциональна значению человека в области его специальности.
37
Для установления в области исторического бытия общего понятия необходимо во всяком моменте всеединства различить его как всеединство, и его как индивидуализацию всеединства. Тогда всеединство и будет выражать себя, как «общее», 1) в единстве индивидуализации, 2) в разъединенности ее на новые индивидуализации, 3) в единстве (и разъединенности) каждой из них, 4) в их взаимоупорядоченности или иерархическом взаимоотношении, 5) в том, что и сама индивидуализация и каждая из ее индивидуализаций характеризуются становлением в единственное бытие из ничто и возвращением в небытие (первая – в смене с другими такими же, как она; вторая – в смене в пределах первой).
Но историческое бытие есть умаленное всеединство, и это видоизменяет установленные сейчас положения. – 1) Единство индивидуализации умалено в стяженное единство, т. е. такое, в котором на основе неразличимости выделяются лишь некоторые иерархически соотносящиеся индивидуализации ее. 2) Разъединенность индивидуализации тоже дана не вполне, как в ней самой, так и 3) в ее индивидуализациях, подобно ей и единых в себе только стяженно. Нет, далее, 5) умаленности всеединства абсолютного небытия индивидуализации (как ни странно звучит это словосочетание – «нет небытия»), хотя почти есть или может быть небытие ее индивидуализаций. Видимая нелепость нашего утверждения объясняется довольно просто. Ведь мы лишь условно различаем в моменте всеединства само всеединство и его индивидуализацию. Всеединство и есть она (в ней самой) и не есть она (в других), становится и умирает в качестве ее, а так как бытие всеединства этою индивидуализацией в совершенстве его не пропадает, то еще – и «воскресает» в качестве ее. При этом, конечно, о «воскресении» индивидуализации можно говорить только в применении к ней, не к самому всеединству; да и само бытие или небытие ее не что иное, как отношение ее к всеединству. Отсюда понятно, что индивидуализации данной индивидуализации по отношению к ней могут и не быть и быть, становиться, погибать и «воскресать», хотя, как несовершенные, и не в полноте каждого из этих актов.
Если в умаленности всеединства нет «полноты небытия» индивидуализации, нет в ней и полноты ее бытия. Иными словами, и для нее и для ее индивидуализаций характерны становление, переход от грани ничто (не от самого ничто) к неполному бытию, и погибание. Это становление и погибание, как самораскрытие индивидуализации всеединства в ее индивидуализациях, очевидно, связано с иерархическим взаимоотношением вторых в пределе первой, отличается одним направлением и необратимостью, отражая тем в своей умаленности иерархическое строение индивидуализации и всеединства. Таким образом, всевременная «живая» иерархия моментов всеединства умаляется в их временный, «исторический» порядок.
Становление в бытие и во все большую полноту бытия дано, как необходимый момент тварного всеединства, в самом понятии его тварности. Тварность и есть становление, т. е. созидание Абсолютным нечто из ничто и («в то же самое время») свободное приятие этим нечто Абсолютного. В понятии становления уже заключается понятие его необратимости. Но становление нельзя, исходя из принятого нами, мыслить без погибания, ибо Абсолютное возможно лишь в том случае, если нечто, ставшее Им, Ему себя отдает, в Нем перестает быть (ср. §§ 5, 7, 13). Становление мыслимо как непрестанное, ничего не утрачивающее нарастание бытия. Но оно мыслимо таковым только в усовершенности, в которой едино с погибанием, т. е. со столь же непрестанным умалением бытия. В несовершенстве своем тварное всеединство и каждый его момент могут выразить себя лишь как становление в погибании или погибание в становлении. Поэтому «индивидуализация» становится, нечто приобретая, и в то же время погибает, нечто утрачивая. Но она в самом становлении и погибании своем существует, есть всеединство, хотя и стяженное, умаленное. Отсюда следует, что она всегда не только неразличимость в данной своей индивидуализации, но и неразличимость в нескольких своих индивидуализациях. Она всегда и сосуществование (т. е. временная последовательность неуловимая, как таковая) нескольких взаимно внеположных своих индивидуализаций, причем сосуществование сейчас именно «этих», а не «тех» индивидуализаций обусловлено их иерархическим соотношением. Таким образом, внеположность моментов, конституирующая в дальнейшем умалении пространственность, является столь же необходимою, как и становление-погибание всякого. Но в данной индивидуализации возможно лишь сосуществование тех ее моментов, которые актуализуются или уже актуализованы. Из понятия становления вытекает своеобразная преимущественность настоящего и прошлого перед будущим, которое равнозначно им только в высшей индивидуальности, во «всеединстве», если брать это понятие в смысле, придаваемом ему этим контекстом нашего изложения.
Итак, анализ умаленного или стяженного субъекта развития дает нам некоторое общее понятие о его структуре и, поскольку оно является, как формально-общее, в каждом моменте субъекта, общий закон развития исторической индивидуализации или исторического момента, индивидуальности и качествования. В силу принципа всеединства, этот общий закон может быть усмотрен в любой индивидуальности, которая, таким образом, оказывается своего рода микрокосмосом и обосновывает принципиальную правомерность заключений от нее к прочим индивидуальностям «по аналогии». – Всякая историческая индивидуальность, как таковая, возникает из ничто, рождаясь в лоне высшей индивидуальности, или еще не различенной или уже различенной на другие низшие индивидуальности. Возникая в качестве неразличенности и неразличимости, в качестве потенциального своего всеединства, историческая индивидуальность актуализуется или развивается в становлении и погибании своих моментов, частично сосуществующих (причем становление является упорядоченным – временным процессом нарастания) и, обуславливая возможность погибания, умаляется в нем (тоже упорядоченном). Развитие индивидуальности есть, по содержанию своему, индивидуализация бескачественного нечто высшею индивидуальностью и, в конце концов, созидание его из ничто Абсолютным; но в то же самое время оно есть свободное приятие Абсолютного свободно возникающим нечто. Поэтому оно всегда направлено на «заданное» ему Абсолютное, как на свой идеал и свою цель. Оно целесообразно в каждом своем моменте, и в смысле направленности к усовершенности его и в смысле направленности к следующему, мыслимой лишь чрез самоуничтожение первого в высшей индивидуальности.
Самою простою, но и самою грубою формулой устанавливаемого нами положения будет следующая: всякая историческая индивидуальность возникает как нечто новое и единственное, становится и погибает в целостности своей и в каждом своем моменте. Эта формула почти ничего не говорит. Конкретизация ее представляет большие трудности и, главным образом, потому, что становление не отделимо от погибания. Ведь мы не можем даже говорить об абсолютном эмпирическом нарастании. Естественное, казалось бы, понятие абсолютного нарастания или абсолютной «исторической памяти» к эмпирии неприменимо. Преимущественность прошлого перед будущим есть тоже стяженная преимущественность. – Во всеединой стяженной индивидуальности нарастание происходит, и в каждом новом своем моменте она богаче, чем во всех предшествующих вместе. Но из этого отнюдь не вытекает, что каждый последующий момент больше актуализует, раскрывает, дифференцирует в себе стяженное всеединство. Эмпирического апогея развития, по-видимому, указать нельзя. Во всяком случае, если бы существовало эмпирическое нарастание, апогей его совпадал бы с его концом, чего мы не видим в действительности.
Всеединая индивидуальность возникает, развивается до полноты своей (до эмпирически-ограниченной своей полноты) и погибает. Онтологически указанные три момента необходимы в приведенной последовательности. Это значит, что они повторяются в той же последовательности в каждой индивидуализации. Но это значит еще, что они так же повторяются и во всем ряду индивидуализаций (т. е. в высшей индивидуальности), являясь одним из принципов, конституирующих их иерархическое взаимоотношение. Отсюда вытекает, что естественно и даже необходимо в ряду выражающих индивидуальность моментов существование одного, который выражает ее лучше других и является апогеем ее развития.
Но каким образом можно примирить этот вывод с предшествующими нашими утверждениями и каковы признаки апогея, да и существуют ли они? – Все моменты суть качествования индивидуальности, все одинаково необходимы в ее полноте. Но вполне мыслимо, что ценность их различна. И конечно, именно оценкою мы пользуемся при понимании любого развития. Так мы говорим, что Новалис выразил себя в литературном творчестве, наименее ему свойственном, что Эд. фон Гартман или Игнатий Лойола не сразу нашли себя, что для европейской культуры пластика менее характерна, чем архитектура, а архитектура менее, чем музыка и т. п. (ср. § 25). Однако, очевидно – если мы хотим найти объективный критерий для установления момента апогея по качеству момента, мы должны обратиться к религиозному качествованию индивидуальности, т. е. к отношению между нею и Абсолютным (§§ 19, 30). И само собой разумеется, что под «религиозным» не следует понимать узко-религиозное. – Необходимо найти в индивидуальности ее специфическое отношение к Абсолютному, независимо от того, правильно ли она «именует» Абсолютное; но чем правильнее она Его именует и вообще выражает, тем свободнее от субъективных примесей, тем полнее наше знание. Это значит, что в эмпирии должна быть индивидуальность, в своей качественности наиболее полно выражающая Абсолютное. Она, личность Иисуса, есть необходимое условие и начало исторического знания. В ней дан иерархический принцип качественного отношения к Абсолютному. Отношение к Абсолютному есть отношение к полноте Всеединства. Следовательно, определяемый по качественной специфичности своей момент апогея должен вместе с тем быть и наибольшим эмпирическим раскрытием индивидуальности, т. е. отличаться от всех прочих и некоторым формальным преимуществом.
Всякая попытка определить момент апогея только по формальному признаку, без критериев качества момента или степени формального совершенства его – обречена на неудачу.
Степень формального совершенства момента есть степень его приближения к его усовершенности, т. е. к нему самому, как моменту усовершенной индивидуальности и усовершенного всеединства. Приближение, будучи созиданием из ничто в Богобытие, т. е. творческим актом Божества, в то же самое время является и свободным становлением момента, т. е. свободным приятием им в себя Божественности (§ 13). Поэтому приближение – усилие индивидуальности, рост его – рост ее интенсивности. Так возникает первая попытка определить формальную высоту момента: по его интенсивности. – Количественное измерение законно и необходимо в естествознании, причем весьма знаменательно, что в математическом естествознании понятие количества перерождается в понятие системы элементов, как математически выразимого качества. В области психической и социально-психической никакое измерение интенсивности невозможно и даже само сопоставление по интенсивности более, чем сомнительно.
Некоторые, например, склонны считать революцию выражением силы. – С бульшим успехом можно защищать обратный тезис: революция – признак упадка сил. В самом деле, интенсивная повседневная работа, производительный труд в эпоху революции идут на убыль. Революция ничего не создает. Она повторяет формулированные до нее идеи (конечно, и это некоторый труд). Она разрушает (конечно, и это некоторая работа). Если мы сопоставим работу революции с работою более мирных периодов, выводы получатся не в ее пользу. Тогда она предстанет пред нами как нечто подобное истерическому припадку, свидетельствующему, насколько мне известно, о слабости нервов и о неумении иначе осуществить свою волю или себя показать.
Принято отмечать интенсивность жизни и творчества в эпоху Ренессанса. – Знакомство с философией эпохи свидетельствует о несомненном ослаблении мысли по сравнению с XIII–XV веками. И при всем восхищении, которое вызывает искусство Возрождения, надо, пожалуй, признать, что не меньше творческих усилий в готике, в поэзии миннезингеров, в Данте. Я уже не говорю о религиозной стороне жизни. И можно ли сопоставлять эфемерные государства Италии со средневековыми монархиями?
То же самое повторяется, когда мы сопоставляем друг с другом отдельные личности. На первый взгляд, Чезаре Борджиа кажется более могучим, более интенсивным, чем Петрарка. Но еще вопрос: меньше или больше нужно было душевных «сил» для такой дифференциации личности, как у Петрарки. «Бурные гении» кажутся «сильнее» спокойного, гармоничного Гёте, а Гёте, видимо, как-то чувствуя свою недостаточность, любил изображать людей колеблющихся и слабых, на него самого не похожих. Во всех случаях оценки психического по интенсивности возможны бесконечные споры. Невольно возникает вопрос: не является ли понятие интенсивности вечно меняющим свое содержание термином, не сводится ли различие между более и менее интенсивным на различие между единым и многообразным, дифференцированным.
Бергсону не удалось показать отсутствие интенсивности в душевной жизни. Но он указал на весьма важную сторону вопроса – на связь роста интенсивности с дифференциацией. Его мысль следует формулировать точнее. – Дифференциация единства не что иное, как рост интенсивности, взятый с объективной стороны. Но это справедливо лишь при одном очень существенном допущении. Выдвигая дифференциацию как объективную сторону интенсивности, мы молчаливо предполагаем, что первичное единство не умаляется. На самом же деле оно всегда умаляется, хотя и в разной степени. Мы знаем уже (§ 5), что возможно душевное состояние, близкое к двуединству, когда, например, в сознании нашем сосуществуют два качествования. Единство наше меньше, когда мы «рассеяны», когда мы только смутно его переживаем. Оно может быть больше, когда мы сознаем себя своего рода системою состояний сознания; может умалиться до «раздвоения» и «размножения» личности (§ 12). Мыслима успешная защита тезиса, что умаленность всеединства есть «величина постоянная» и выигрываемое в дифференциации проигрывается в единстве, как и обратно. Такой тезис очень даже хорошо согласуется с вытекающим, по-видимому, из предшествующих рассуждений образом момента как индивидуализованного стяженного всеединства, которое меняется в специфичности своей индивидуализации, но, всегда равное себе, стремится вперед по линии развития. – Степень приближения индивидуальности к ее идеалу, с субъективной стороны определяемая как ее интенсивность, с объективной – как жизнь ее единства и дифференциации, не выразима ни для нее в целом ни для ее моментов. Критерия формальной близости к всеединству у нас так же нет, как и критерия качественной преимущественности, если только мы не принимаем указанного выше допущения, т. е. если не признаем какого-либо момента и какой-либо индивидуальности абсолютированными. В этом же случае, на основе догмы Боговоплощения, мы приобретаем критерий и для качественного и для формального сравнения. Как предельно-совершенная в эмпирическом бытии личность, Иисус раскрывает нам в особой, присущей Ему только индивидуализации и высшее качествование и наибольшую в эмпирии формальную полноту Всеединства. Само собой разумеется, что, выдвигая этот тезис, мы еще ничего не решаем: мы лишь ставим проблему единственно-возможным образом. Вопрос о преимущественном качествовании Иисуса и о формальном строении Его личности не так прост, как может казаться с первого взгляда. Решение его теснейшим образом связано с решением вопроса об исповедании, наиболее полно выражающем христианство. Философия истории неизбежно конфессиональна (§ 30).
Эмпирическое развитие всякой исторической индивидуальности (выражаясь точнее – всеединого человечества в целом и во всех его индивидуализирующих личностях (§ 14)), определяется, конкретизируя данную выше формулу, следующими чертами. – Первым хронологическим моментом и началом развития надо считать потенциальное всеединство исторической личности, эмпирически, конечно, ограниченное. Собственно говоря, это потенциальное всеединство лежит за пределами истории, на грани времени и исторического бытия (ср. § 6). Оно неопределимо и непознаваемо никаким образом, никаким методом. Можно сказать даже, что оно не существует. Если обратиться к биологическим аналогиям, его можно сравнить с самым первым моментом бытия зародышевой клетки в чреве матери. В нем совершается переход от небытия к бытию. И первый момент бытия есть наиболее к нему близкий. Это начальное бытие исторической индивидуальности с наибольшей эмпирической полнотой выражает возможное в эмпирии единство. Потенциально-всеединая личность, начиная быть и отделяясь от всеединого человечества, едина в себе самой, еще не дифференцирована, не многообразна.
С тою же уверенностью можем мы наметить следующий момент развития как первично-дифференцированное единство. Оно уже разъединено на моменты и тем самым умалило свое единство. Но в нем единство еще реально пронизывает все моменты, а они, противостоя друг другу, взаимно связаны реальною связью. Ни один из них не обладает стойкостью: они легко возникают и легко исчезают, легко переходят друг в друга, взаимозаменимы, и не раскрывают еще себя. Точно так же не отличается стойкостью и само их единство, то усиливаясь, то слабея и даже исчезая, тем более, что каждый из моментов из себя самого легко воспроизводит это единство, для которого таким образом характерно преобладание «надорганических индивидуальностей» (ср. § 26). Первично-дифференцированное единство не отделено резко и от высших индивидуальностей, им себя не противопоставляя, как не отделено оно резко и от других единств того же порядка. В связи с этим стоит отсутствие в первично-дифференцированном единстве определенных качествовании (§ 19), «синтетичность бытия», в частности – религиозный его характер без обособления религиозности от других качествований. В связи в этим стоит еще интимная, реально-конкретная связь первично-дифференцированного единства с природою.
В дальнейшем развитии возможно умаление единства без роста дифференциации и умаление его в связи с ее ростом. Первый случай в предельности своей является распадом, т. е. смертью индивидуальности. Второй допускает ряд степеней, заранее теоретически не установимых. В общих чертах третий момент развития (со всеми оговорками об условности и относительности нашей характеристики) можно определить, как период органического единства. Отличительными чертами этого периода должны быть функциональная ограниченность и относительная стойкость индивидуализаций, органическое и систематическое их единство, разъединение и внешняя систематизация качествовании, в частности самоопределение и самоограничение религиозности. В связи с этим меняется отношение к высшим личностям и к определенно противостоящим личностям того же порядка, принимая характер внешний, к природе, отъединяемой и потому функционально разъединяющей. В развитии периода органического единства различимы эпоха, когда еще силен надорганический принцип, возвышающий над функциональной ограниченностью сами органы, и эпоха чистой органичности, даже систематичности. Вторая естественно должна привести к последнему моменту развития.
Чисто-органическое бытие индивидуальности есть умаление ее единства, а, следовательно, единства и целостности каждой его индивидуализации, ибо она, утверждая исчерпанность всеединства в системе множества, тем самым отрицает единство как принцип бытия. Органическое единство необходимо вырождается в систематическое и затем погибает в распаде, т. е. в отрыве от высших индивидуальностей, от природы, в разложении системы и ее моментов, в борьбе с другими индивидуальностями. Этот, четвертый момент развития есть погибание социально-психического, материализация личности, уподобление ее неживой природе.
Таким образом, эмпирическое развитие исторической индивидуальности в самых общих чертах определимо четырьмя моментами. От потенциального всеединства индивидуальность развивается в первично-дифференцированное или надорганическое единство, из него – в органическое единство, завершающееся распадом и смертью. Понятно, что смерть индивидуальности может наступить и в любом из моментов, и наша формула дает лишь тип нормального развития. Не содержится в ней и оценки моментов, так как для подобной оценки необходимо применить к развитию религиозный и даже христиански-православный критерий.
И в первый и во второй моменты развития религиозным является все: все стоит в связи с Абсолютным и пронизано отношением к нему. Каждый момент, каждая индивидуализация религиозны не только стяженно и потенциально, но и актуально в меру их собственной актуализации. Религиозно воспринимается и внешний, пространственно-материальный мир. Религиозное не всегда опознается в его специфичности, но оно всегда может быть опознано так и всегда «склонно» к такому его опознанию, непосредственному, неотделимому от опознания и прочих качествований. Во всех схемах развития наблюдается тяготение к тому, чтобы усматривать в намеченной сейчас универсальности религиозного начала только преимущество. Этого преимущества мы отрицать не станем. Но, не усматривая в потенциальности высшего выражения бытия, мы должны указать и обратную сторону – бессознательность, недифференцированность религиозности. В третьем моменте она дифференцируется, но зато она уже не является всеобъемлющим качествованием. Она «освящает» другие качествования – полагается выше их, но и вне их: обособляется сфера религиозного, дифференцирующаяся внутри себя самой на то, что можно связать с терминами догмы, культа, религиозной морали. Вместе с обособлением религиозного качествования и осознающая себя религиозною личность противопоставляет себя Абсолютному, как объекту ее религиозности. По мере утраты личностью надорганического начала, по мере «систематизации» ее, религиозность все более утрачивает первенствующее свое положение. Утрачивая господство, ограничиваясь в органической индивидуальности, ею ограничиваемой, религиозность вытесняется и близится к гибели в четвертый момент развития, в период распада. На чем, в самом деле, покоится, чем обосновано первенство религиозного в системе качествований? Почему не поставить на его место какое-нибудь другое, например – «научное», «общественное»? Раз система вне реальности, трансцендентна, абсолютно религиозность не обоснована. Четвертый момент развития и характеризуется арелигиозностью. Но поскольку распад приводит к сознанию распадающегося, в нем открывается вновь тяга к религиозному, как последнему и единственному основанию прекращающейся жизни (ср. § 30), аскетическая религиозность.
38
Применяя установленную нами схему развития к человечеству в целом, мы получаем основную ткань исторического процесса. История человечества не что иное, как эмпирическое становление и погибание земной Христовой Церкви (следует говорить и о смерти Церкви, раз умер Иисус Христос). С этой точки зрения апогей развития человечества – христианская религиозная культура (§ 30). В ней с наибольшею эмпирической полнотой явлено религиозное качествование, и она сама являет наибольшую полноту формального строения Всеединства. Это вовсе не значит, что другие индивидуализации человечества – другие религиозные культуры не самоценны в своих качествованиях и не раскрывают иных, не данных в христианской, формальных моментов; не значит, что христианство исчерпывает человечество и человеческое, «отменяя» иные культуры. Это не значит также, что именно сейчас момент апогея в развитии самой христианской культуры. Напротив, очень многое говорит за то, что на смену умирающей западно-христианской ее индивидуализации нарождается иная, восточно-христианская или православно-русская (§ 31), может быть и не она одна. Конечно, с этим можно спорить, указывая на возможность иной религии. Но для убежденного в истинности христианства «новая религия» не что иное, как новое христианское исповедание; для допускающего ценность всего религиозного в христианстве высшее из известных нам религиозных миросозерцаний.
Если схема наша правильна, возможно наметить предшествующий или предшествующие моменты развития человечества. Но нет никакой необходимости предполагать, что эти предшествующие моменты всецело предшествуют и хронологически и что развитие человечества требует исходного географического центра. Весьма возможно и, мне кажется, подтверждается всем нам известным историческим материалом, что и ныне человечество частично существует в потенциальном и первично-дифференцированном состоянии. В состоянии потенциальности или первичной дифференцированности должны находиться нарождающиеся ныне культуры, народы, меньшие коллективные индивидуальности, хотя они и пребывают в лоне других, развитых и погибающих, что нередко сбивает исследователя. В силу самой природы всеединства, потенциальность любой исторической личности есть и потенциальность всего человечества в ней. Равным образом дохристианские культуры могут сосуществовать с христианскою. И те из них, которые «умерли», переживают себя в ней, как и еще не рожденные христианские исповедания «предвосхищаются» в существующих ныне (§ 27). Христианская культура определяется не географически и не хронологически: она определяется из ее идеи. В современной Европе частично живут и античность, и египетская, и ассиро-вавилонская культуры: в ней живут и Китай и Индия; как и христианская культура не только в Европе и России, но и в языческих странах Дальнего Востока, как и она «предвосхищается» в религиозных и философских исканиях древности.
Мне кажется, что человечество сейчас находится в органическом периоде своего развития, хотя некоторые из индивидуализирующих его культур и близки к смерти. Именно в применении к высшей исторической индивидуальности – к человечеству более всего необходимо помнить о его всевременности и всепространственности. С другой стороны и схема развития приложима к человечеству в целом лишь при условии ясного различения между ним и его индивидуализациями, о чем особенно забывают теперь, отожествляя «гибель Европы» с гибелью человечества. Она должна быть или отвлеченною схемою или конкретною метафизическою историей (ср. § 17).
Менее спорен и более показателен анализ низших индивидуализаций человечества: религиозных культур и, особенно, культур и народов. В развитии их нетрудно указать основные, намеченные выше моменты. Период первично-дифференцированного единства находит себе прекрасную конкретизацию в ранней истории германства или славянства, отчасти в истории Древнего Рима, менее нам известной. Я бы подчеркнул здесь неустойчивость племенных и надплеменных единств, расы, рода и семьи, значение религии и «натурализм» религиозности. Но я бы настаивал на различении между ранней историей германского народа и началами западно-христианской культуры (§ 27). – Западно-христианская культура возникает только около IX–XI века. Ее второй период полнее всего выражен в так называемом феодализме (X–XII в.); и есть некоторая аналогия между ранними германскими государствами (Арминия – Германа, Марбода и державою Плантагенетов, Норманнским королевством, Империей, Крестовыми походами. Для этой эпохи характерно превращение Церкви в социально-политическую силу, в силу культурную; характерна руководящая роль Церкви, вовсе несводимая на «античную традицию». Для нее показателен религиозный характер Империи. И сама религиозность, слишком часто и односторонне рассматриваемая как пережиток язычества в христианстве, отличается всеобъемлющим своим значением, близостью к природе и жизни. Нет догмы, но есть догматические искания; нет норм морали и права, но они осознаются в бурном их нарушении. И несмотря на всю неопределенность религиозности, обнаруживается ее специфичность – сосредоточение на человеке и человеческой деятельности, предвозвещенное догматическим домыслом о Filioque.[53 - Filioque – «и от Сына», лат. – добавление в Символ веры, первоначально составлявшее единственное догматическое различие между католичеством и православием.]
Не стану указывать на аналогичные моменты в развитии иных культур. Но мне хотелось бы отметить аналогию с современным положением России, где, на мой взгляд, нарождается новая христианская культура, из чего не следует еще, что она и родится (§ 31).
Позднее Средневековье являет собою органический период в развитии западно-европейской культуры, и притом в первой его стадии – с мощным обнаружением надорганических начал в образовании национальностей и государств, в сословном строе и сословной монархии (§ 26), в попытках синтеза религии и науки, венчаемых системою Николая Кузанского. Начиная с Возрождения,[54 - См. мою работу «Джиордано Бруно». Берлин, 1923.] надорганические моменты уступают место органическим. Культура становится системою отношений. Государство из сословного делается монархически-самодержавным, абсолютным, из абсолютного – демократией, рационалистической системой. Общество распадается не на сословия, а на органы-классы. Мировоззрение теряет религиозную основу, и религия становится в ряд с другими качествованиями, в силу чего порывается связь с Абсолютным и культура делается релятивистической. Философия XIX века – система научно-разработанного мировоззрения, т. е. общий термин, чисто словесно объемлющий не вмещаемые в индивидуальное сознание такие же «системы наук». Специалисты (органы) перестают понимать друг друга; между науками вырастают непреодолимые китайские стены из знаков и терминов, «къеккенмедингены» (отбросы пищи) погребают под собою живую мысль. Распад единого миросозерцания, не возмещаемый уже, как до начала XIX в., гениально-односторонними философскими учениями (Декарта, Спинозы, Лейбница и немецких идеалистов), символизирует распад вообще. Фактически торжествует атомистическая теория общества, уничтожающая и атомы и отношения (§§ 36, 26, 16). Это не что иное, как материализация социально-психической личности, умаление ее до степени разъединенно-пространственного, неживого бытия, торжество материализма в самом глубоком смысле слова (§§ 22, 25).
Западно-христианская культура, видимо, погибает. И просыпающаяся в ней религиозность – религиозность старости (§§ 37, 30). Она переходит или уже перешла в четвертый период своего развития. И это нетрудно подтвердить анализом католической и протестантской догматик, диалектически себя исчерпавших и умирающих в западно-европейской философской мысли, которая не иное что, как их умаление. Только такой анализ не может быть произведен мимоходом – тогда ему и цены не будет – и в границах данного исследования. Однако, из сказанного не следует делать неправильных выводов. – Весьма возможно, что на территории Западной Европы нарождается новая христианская культура и возникают новые субъекты развития, отличные и от нарождающегося в России и от нарождающегося в Америке. Возможно, что начинается культура Новой Германии. С другой стороны, и современная западноевропейская культура живет и развивается в России, сосуществуя с местными. В этом смысле ей предстоит еще долгая жизнь. Умирает лишь эта Европа, это пространственно и временно непрерывное культурное единство.
Для объяснения индивидуального развития необходимо (§ 34) во всеединой стяженной личности найти превышающую ее индивидуальную ограниченность всеединую личность, т. е. как-то и отличить индивидуальное от индивидуализирующегося в нем «общего», «второго общего». Это же «второе общее» понадобится нам и тогда, когда мы встанем перед проблемою взаимодействия индивидуумов. Таким образом, наряду с «первым общим», всеединством своих моментов и моментом высшей всеединой личности, обнаруживается «второе общее», моментом которого является «первое». Поскольку «второе общее» усматривается и обособляется нами для объяснения изучаемой нами конкретной индивидуальности, мы непосредственно усматриваем его становление в ее моментах. Нам нет необходимости точно отличать его от «первого общего» именно в силу непосредственности его обнаружений. И все же нам надо понять «первое общее» как его момент, т. е. усмотреть «второе» как превышающее «первое» и, следовательно, их различать. Мы находим «второе» в «первом», в моментах «первого», но не только в нем и в них. Наше знание будет полным, если мы все моменты «первого», все «первое» поймем и как индивидуализацию «второго» (хотя практически нам нужно «второе» только для понимания некоторых моментов «первого»). Но само отличение «второго» от «первого», познание «второго», покоится на усмотрении его и вне «первого». Поэтому для объяснения данного индивидуального развития достаточно установить, что в «первом» есть «второе», в нем индивидуализирующееся, т. е. что «второе» есть и вне «первого» и обладает объясняющею свою индивидуализацию специфичностью. Тогда «второе общее» обнаружит свою дедуцирующую силу вполне, в большей мере, чем любой закон естествознания, и тем не менее, не будет внешне отграничено от «первого», от его моментов и точно определено за гранями «первого». И опять-таки – для объяснения индивидуального развития точная формулировка его не необходима.
Однако историк стремится к полноте знания. Познав с возможною полнотою данное индивидуальное развитие, он сосредоточивает свое внимание на «втором общем». До сих пор он изучал конкретного индивидуума, по отношению к которому «второе общее» выполняло роль закона. Теперь он изучает само «второе общее», изучает так же, как изучал «первое» или индивидуума. «Второе общее» для него уже не «закон», не вспомогательное понятие, но – живая коллективная личность, конкретное всеединство. Ему даны разрозненные, «случайные» ее индивидуализации. По ним он познает ее, от них и в них. Естественно он может стремиться и к конкретности познания и к некоторой общности его. Последнее неизбежно при изучении более или менее многообразно актуализировавшей себя коллективной личности. Поневоле приходится ограничивать себя главными, наиболее характерными ее обнаружениями, отвлекаться от их конкретности к их символичности, брать их в той мере, в какой они достаточны для раскрытия природы и общего направления развивающейся коллективной личности. И само собой разумеется, для понимания и объяснения ее придется вновь обратиться к высшим личностям, индивидуализирующимся в ней.
В таком виде представляется нам процесс исторического познания. Идеальная цель его – познавательное качествование всеединого человека как в единстве его, так и во всех его моментах. Практически историческое познание ограничивается тою либо иною историческою индивидуальностью, как стяженным всеединством своих моментов, причем моменты познаются и в специфичности и в символичности своей, а высшие исторические индивидуальности выполняют роль дедуцирующих ее «законов» или «общих» понятий, раскрывая непрерывность, но не требуя точного их определения. Для обоснования исторического знания необходимо признать развитую нами теорию всеединства и достоверность стяженного знания. Стяженность же знания есть и его несовершенство, несовершенство самого исторического бытия. В силу стяженности своей историческое знание не только ограничено, но и символично и, не будучи в состоянии исчерпать полноту даже малейшего момента всеединства, лишено возможности точно определять свои объекты и точно их различать. Историческое знание как бы где-то посередине: между разъединенностью и единством, не достигая вполне ни того ни другого и, следовательно, не достигая всеединства. В этом его слабость, но в этом и его преимущество, ибо, благодаря «срединности» своей, оно обладает непосредственно данною непрерывностью бытия.
Для полного уяснения природы исторического вообще и того, что можно назвать общим историческим понятием, в частности, необходимо помнить о своеобразном отношении между познаваемой и свободно созидающей себя исторической действительностью (ср. § 32). С нашей точки зрения, это не две действительности, а – одна в двух своих качествованиях. Субъект исторического познания то же, что субъект исторического творчества. Познание мною исторического субъекта есть мое соучастие в его самопознании, индивидуализация этого самопознания. Познание мною его самораскрытия, его деятельности есть мое соучастие в этом ее самораскрытии. Но и обратно – всякая деятельность индивидуума есть индивидуализация всеединой деятельности исторического субъекта, которая не перестает быть деятельностью от того, что ограничивает себя как только познавательную. Анализ взаимодействия двух индивидуумов позволяет установить, что 1) оба они в действовании своем являются моментами высшей личности, 2) каждый из них, «воздействуя на другого», утверждает себя путем вытеснения или поглощения другого, т. е. каждый и утверждает себя в бытии или жизни и погибает в самоутверждении другого, 3) оба, последовательно или сосуществуя, каждый по-своему, индивидуализируют двуединое действие, вне или, вернее, – без их индивидуализаций не существующее (ср. § 11). Таким образом раскрывается в связи с высшею личностью и понятие индивидуальной свободы и умаление его в понятие свободы выбора (liberum arbitrii). Мотивировка (и, следовательно, рационализация) деятельности индивидуума воздействием на него извне оказывается реальною недостаточностью в опознании его двуединства с воздействующим: двуединство воспринимается только как раздвоенность, а высшая индивидуальность совсем не воспринимается. Выясняется и смысл чувств причинения или испытывания насилия. Первое – ограниченное самоутверждение; второе – отрицание самоотдачи.[51 - Более детальное развитие и обоснование этого учения см. в моей статье «О свободе» – «Мысль», № 1. Петербург, 1921.]
Когда вместо индивидуума того же порядка мы берем в качестве второго члена взаимодействия высшую индивидуальность, дело по существу не меняется. Воздействие высшей индивидуальности на низшую, в конце концов – на индивидуума, не должно пониматься по типу механического толчка. Высшая индивидуальность не отделена от низших: она в них и не без них. Ее воздействие на низшую не что иное, как индивидуализация ее действия в низшей и низшею. Если бы низшая «не хотела» индивидуализировать, индивидуализации бы и не было. Но если низшая «хочет», она лишь специфицирует действие высшей, которая в ней хочет. Ей кажется, что она творит из себя, потому что она не отделяет себя от высшей, считая ее своим не только в спецификации, (в чем она, до известной степени, права, так как сама она есть и высшая личность). Ей кажется, что воля высшей личности ее принуждает, потому что, будучи и этою высшей личностью в ее стяженности, она стяженно качествует и другими индивидуализациями данного действия высшей личности. По тому же самому основанию низшая личность сознает свое действие не только как свое, но и как индивидуализируемое в других подобных ей личностях высшею, и сознает его как воздействие на высшую (§ 32).
Деятельность исторического субъекта и всех его индивидуализаций целесообразна. Но цель лежит не во вне. Цель – смысл свободно развертывающейся деятельности; она актуализируется в этой деятельности и как эта деятельность, развивается от стяженности в смутном предвосхищении до ограниченной осуществленности. Здесь особенно важно помнить о соотношении временности и всевременности, с одной стороны, и об усовершенности всеединства, как идеале его, с другой. Всякая целесообразная деятельность исторической индивидуальности не что иное, как ее усовершение или умаление, приближение к ее идеалу-цели или удаление от него. Если мне кажется, что я стремлюсь к некоторому иному состоянию моего народа, я прав в том смысле, что я индивидуализирую его всеединое стремление, и не должен забывать о себе, как стяженном его всеединстве, т. е. не должен отожествлять под общим термином «я» себя ограниченного с собою высшим. На недостаточном понимании этого и покоятся многие мнимые проблемы философии истории (например – теория прогресса) и ложные «методологии общественной деятельности».
36
Представим теперь себе наибольшее умаление всеединства как наименьшее его единство. Всякому не то что читавшему Канта, а просто немного способному философски размышлять человеку ясно: полного отсутствия единства допустить мы не можем без признания, что совсем ничего нет. Если нечто существует, существует и единство, конституирующее это нечто, т. е., говоря точнее, существует умаленное всеединство. Каковым же должно быть наиболее умаленное всеединство?
Как бы мы ни умаляли его, в нем, пока оно еще существует, должны быть все его моменты и оно само, как некоторое, хотя и наималейшее единство их. Умалив до возможного предела момент всеединства, мы исключим из него всякую многокачественность (тогда бы он был всеединством) и оставим за ним лишь то, что он – «этот» момент, отличный от всех прочих. Момент превратится, умалится как бы в самое начальное мгновение своего бытия, в самый первый, еле слышный свой «писк». В нем есть его исконная специфичность, но мы постараемся устранить и ее. Мы сможем сделать это, исходя из самого принципа всеединства, благодаря чему момент явится для нас «определяемым», «конституируемым» силою всеединства, как единства моментов, и уже не свободным (ср. § 19). Таким образом, мы получим совокупность одинаковых «субстанциальных» или «мировых точек». Ни одна из них не есть вместе с тем и другая, все исключают друг друга, и каждая лишь бесконечно-малая потенция всеединства. Ни одна еще не начала качествовать, становиться, и потому все они могут сосуществовать, и даже должны сосуществовать, ибо иначе будет не умаленное, а усеченное всеединство, и мы, умаляя его, не сохраним даже его множественности.[52 - Умаление всеединства со стороны его множественности приводит к абсолютной потенции.] Но у нас осталась совокупность всех точек, т. е. и их единство. В чем же это единство?
Единство совокупности всех мировых точек прежде всего – принцип момента (формально-общее), как бы единство, «повторенное» всеми точками. Во-вторых, единство – принцип множества точек и, следовательно, их взаимоотношение или система. Эта система не может быть конституирована ни каждою точкою в отдельности, ни всеми ими вместе, ибо в одной точке ее нет (в одной точке есть лишь место ее в системе), а все точки систему уже предполагают. И эта система вне точек, ибо даже «место» каждой точки не внутри ее, а вне, из нее, невыводимо (§ 32).
Единство как система есть взаимоотношение множества точек, но не одна из них и не все они вместе. Оно вне их и этим определено. Но какие взаимоотношения точек мыслимы в таком умаленном всеединстве, в системе точек? Система должна созидать отдельность точки от всех остальных, и притом не принимая во внимание специфической качественности каждой, ибо специфичность точек мы признали уже дальнейшим периодом развития всеединства, признаком меньшей его умаленности. Система должна установить, что каждая точка не есть ни одна из других, установить внеположность ее всем прочим и притом однородную для всех. Это достижимо, если всепространственность, ясная в историческом бытии, умаляется в пространственность, т. е., сохраняя внеположность двух моментов, утрачивает их единство, оставляет только единство системы. Тогда всякая точка отделима от всех прочих и определима. Если же при этом мы не соглашаемся на «усечение» всеединства, т. е. на появление и исчезновение точки, мы должны самое всевременность выразить не в умалении ее, а в ее отожествлении с пространством. Таким образом, мы придем к тому понятию мира, которое развито Германом Минковским.
Однако, в мире Минковского отсутствует существенный момент всеединства, который не может исчезнуть даже при предельном умалении. Если бы мы знали точки пересечения всех «мировых линий», мы не исчерпали бы специфической качественности их распределения. – Как ни умалять всеединство, раз сохранены все его моменты, сохраняются и частные всеединства, соответствующие коллективным индивидуальностям в истории. Какими должны быть частные всеединства в умаленном до системы множества всеединстве? Очевидно, они не могут быть такими же мировыми точками, как последние единицы, и не должны обладать качественною отличностью. Они, как мы знаем, конкретные всеединства своих индивидуализации. Следовательно, они должны предстать в качестве «пучков точек», «узлов» их или «частных систем точек». Каждая подобная система отличается от других не конкретным содержанием своим: все точки одинаковы и, поскольку введена четвертая координата «t», взаимно заменимы. Она отличается как система, т. е. принципом распределения в себе точек. Поскольку мы относим все эти системы к высшей, мы возвращаемся к уже установленным принципам систематизирования. Но точно так же, как однозначно определена каждая мировая точка, однозначно определена и каждая мировая система. Это значит, что принцип строения ее нечто только ей присущее, ею добавляемое в высшую систему, не выводимое, хотя объяснимое из высшей системы данное.
Вообразив такое умаленное всеединство, мы поставим вопрос о том, какую роль в нем должны играть общие понятия и какими отличительными чертами эти понятия должны характеризоваться. Надо только предварительно заметить, что, согласно сказанному, определение всякой системы по отношению к другим системам ее же порядка ничем не отличается от определения мировой точки, но определение точки по отношению к ней и ее по отношению к высшим системам требует дополнительных моментов. Оно невыполнимо без меры и числа.
Общее понятие в нашем воображаемом мире, конечно, есть система. Оно отделимо и отделено от содержимых им элементов или точек, как отвлеченное бытие от конкретного. Оно выражается так, что сохраняет абсолютную внеположность своих элементов и, естественно рассматриваемое как их соотношение или связь, позволяет от присутствия некоторых заключать к присутствию остальных по формуле: «если… то…». Для него типична условная форма. Равным образом, в пределах временного течения, при безразличии для него «протекающих» через него элементов, оно отличается вневременностью, т. е. «повторяемостью». Признак всевременности должен отпасть ввиду «безразличности» «протекающих» через систему точек. И, очевидно, оно лишь в том случае может быть отграничено от других общих понятий его же порядка, если характеризовано исключающим их образом. Оно должно быть определено возможно точным способом, мерою и числом, мерою ли и числом входящих в него элементов или (что при «безразличности» их лучше) мерою и числом, выражающими их соотношения. Без точности определения в данном случае нельзя отличить одно общее понятие от другого, нельзя отграничить его и от высшего. При этом точно определенное высшее понятие объясняет и обосновывает низшее. Ведь оно дает первичную связь элементов, на которой покоится низшее, и все низшие понятия данного порядка конституируются (ср. § 34).
Мне представляется очень существенным отметить смысл и значение точности как единственного средства познания общего и высшего в умаленном всеединстве. При отсутствии точности общее становится здесь нереальным, предположительным. Без нее не отличить случайно повторяющегося сосуществования элементов от единственной, т. е. необходимой, их связи, не выделить общего, ибо качественное его своеобразие познается (и дано) в смутной форме, а диалектичность и совсем отсутствует. Ведь необходимо познать именно эту связь, именно этих точек, которые (и связь и точки) проявляются («повторяются») в бесчисленном количестве случаев.
Вполне понятно, что и всякое представление о будущем в умаленном всеединстве должно отличаться тем же тяготением к точности. Если мы хотим воздействовать на такое всеединство, на систему разъединенного множества, нам необходимо точно выразить желанное для нас его состояние и возможный к нему переход. Мы знаем – воздействие наше на высшую индивидуальность есть ее индивидуализующаяся в нас деятельность. Воздействуя на умаленное всеединство, высшая индивидуальность, и в себе и в нас, должна или познавать и его состояние и изменение этого состояния в точных определениях или отказаться от всякого на него воздействия.
При всем значении сжато намеченной сейчас методологии познания и воздействия, следует не упускать из виду ее саморазрушительные тенденции. – Исходя из разъединенного множества одинаковых элементов, она влечет к отрицанию их значения и даже бытия. Сами элементы остаются непознаваемыми – познание всецело сосредоточивается на системе их отношений; и в конце концов мы стоим перед угрозою утверждать систему отношений, отрицая то, что друг к другу относится, или выводя соотносящееся из отвлеченного «отношения». С другой стороны, исходя из разъединенности или прерывности, мысль неизбежно приходит и к отрицанию самой системы как единства. Она словно стремится завершить умаление всеединства в полной его гибели.
Необходимо признать, что рассмотренным методом мы в состоянии, самое большее, констатировать моменты и их систему, но не в состоянии объяснить и обосновать ни их ни ее. Получаемое нами знание даже не символично. Оно дает знаки и предоставляет раскрывать их смысл каким-нибудь иным образом. А смысл этот раскрыть необходимо, потому что иначе никак не объяснить ни объекта знания, ни содержания, ни субъекта его.
Мы умышленно дали некоторую воображаемую картину. Она лучше, нам кажется, подводит к уразумению естествознания, освобождая от обязывающих характеристик и определений. Мы a priori устанавливаем некоторые тенденции умаления (вполне реального) всеединства, тенденции, обнаруживающиеся как характерные для современного естествознания. Конечно, наряду с этими в нем есть и другие, занимающие промежуточное положение между априорно нами охарактеризованными и историческими. Здесь обнаруживаются свои уклоны и недостаточности. Так в учениях, объемлющих органическое развитие, выступают обоготворение системы, превращаемой в метафизическую силу, и попытки устранить пространственно-материальное бытие (§ 2). Но нам всего этого в данной связи касаться не надо. Единственная наша цель – выяснить характер исторического и устранить возможные недоразумения намеком на уясняющий их путь. При этом во всем сказанном нет ни малейшей мысли о замене естествознания историческим методом. Больше того – возможность точной фиксации моментов является преимуществом некоторых наук о природе, истории эмпирической навсегда недоступным. Однако отсюда не следует, что методы точного естествознания (за которые оно расплачивается недостаточностью в другом отношении) применимы к историческому бытию. История может достичь точности, только усовершив себя самое (§ 32). В неусовершенности своей она так же далека от полноты знания, как и науки о природе, только по-иному. История несовершенно выражает целостное бытие, т. е. усовершенное; она познает, объясняет и обосновывает познаваемое. Точное естествознание только отображает умаленность бытия и принуждено, если не хочет стать плохою метафизикой, предоставить объяснение и обоснование философии.
В связи с этим чрезвычайно важно освободиться от фетишизма точности, как мы уже освобождаемся от фетишизма материальной стороны культуры. Необходимо отдать себе отчет в том, почему и зачем естествознанию нужна точность, почему и зачем точность связана с техникой, как планомерным воздействием на природу. И тогда сразу же обнаружится, что истории точность совсем не нужна или что у нее есть своя точность. – Без измерений, без резкого разграничивания она усматривает связь явлений и личностей; и только при отсутствии прерывности (т. е. и «точности») может познавать развитие. Эмпирическая точность – признак ограниченности сферы бытия, к которой она применима, и сферы знания, для которой она необходима, хотя возможность точности в эмпирии и покоится на онтологическом факте, историческому знанию недоступном. Точно определимо лишь неподвижное, застывшее, мертвое. И самые точные наши определения покоятся на игнорировании медленного развития, отожествляемого с неподвижностью. Очень показательно, что усиленные занятия «точными науками» часто не образовывают, а ограничивают человека, делают его мышление примитивным и непригодным для жизни и деятельности. Иногда эта примитивность прямо пропорциональна значению человека в области его специальности.
37
Для установления в области исторического бытия общего понятия необходимо во всяком моменте всеединства различить его как всеединство, и его как индивидуализацию всеединства. Тогда всеединство и будет выражать себя, как «общее», 1) в единстве индивидуализации, 2) в разъединенности ее на новые индивидуализации, 3) в единстве (и разъединенности) каждой из них, 4) в их взаимоупорядоченности или иерархическом взаимоотношении, 5) в том, что и сама индивидуализация и каждая из ее индивидуализаций характеризуются становлением в единственное бытие из ничто и возвращением в небытие (первая – в смене с другими такими же, как она; вторая – в смене в пределах первой).
Но историческое бытие есть умаленное всеединство, и это видоизменяет установленные сейчас положения. – 1) Единство индивидуализации умалено в стяженное единство, т. е. такое, в котором на основе неразличимости выделяются лишь некоторые иерархически соотносящиеся индивидуализации ее. 2) Разъединенность индивидуализации тоже дана не вполне, как в ней самой, так и 3) в ее индивидуализациях, подобно ей и единых в себе только стяженно. Нет, далее, 5) умаленности всеединства абсолютного небытия индивидуализации (как ни странно звучит это словосочетание – «нет небытия»), хотя почти есть или может быть небытие ее индивидуализаций. Видимая нелепость нашего утверждения объясняется довольно просто. Ведь мы лишь условно различаем в моменте всеединства само всеединство и его индивидуализацию. Всеединство и есть она (в ней самой) и не есть она (в других), становится и умирает в качестве ее, а так как бытие всеединства этою индивидуализацией в совершенстве его не пропадает, то еще – и «воскресает» в качестве ее. При этом, конечно, о «воскресении» индивидуализации можно говорить только в применении к ней, не к самому всеединству; да и само бытие или небытие ее не что иное, как отношение ее к всеединству. Отсюда понятно, что индивидуализации данной индивидуализации по отношению к ней могут и не быть и быть, становиться, погибать и «воскресать», хотя, как несовершенные, и не в полноте каждого из этих актов.
Если в умаленности всеединства нет «полноты небытия» индивидуализации, нет в ней и полноты ее бытия. Иными словами, и для нее и для ее индивидуализаций характерны становление, переход от грани ничто (не от самого ничто) к неполному бытию, и погибание. Это становление и погибание, как самораскрытие индивидуализации всеединства в ее индивидуализациях, очевидно, связано с иерархическим взаимоотношением вторых в пределе первой, отличается одним направлением и необратимостью, отражая тем в своей умаленности иерархическое строение индивидуализации и всеединства. Таким образом, всевременная «живая» иерархия моментов всеединства умаляется в их временный, «исторический» порядок.
Становление в бытие и во все большую полноту бытия дано, как необходимый момент тварного всеединства, в самом понятии его тварности. Тварность и есть становление, т. е. созидание Абсолютным нечто из ничто и («в то же самое время») свободное приятие этим нечто Абсолютного. В понятии становления уже заключается понятие его необратимости. Но становление нельзя, исходя из принятого нами, мыслить без погибания, ибо Абсолютное возможно лишь в том случае, если нечто, ставшее Им, Ему себя отдает, в Нем перестает быть (ср. §§ 5, 7, 13). Становление мыслимо как непрестанное, ничего не утрачивающее нарастание бытия. Но оно мыслимо таковым только в усовершенности, в которой едино с погибанием, т. е. со столь же непрестанным умалением бытия. В несовершенстве своем тварное всеединство и каждый его момент могут выразить себя лишь как становление в погибании или погибание в становлении. Поэтому «индивидуализация» становится, нечто приобретая, и в то же время погибает, нечто утрачивая. Но она в самом становлении и погибании своем существует, есть всеединство, хотя и стяженное, умаленное. Отсюда следует, что она всегда не только неразличимость в данной своей индивидуализации, но и неразличимость в нескольких своих индивидуализациях. Она всегда и сосуществование (т. е. временная последовательность неуловимая, как таковая) нескольких взаимно внеположных своих индивидуализаций, причем сосуществование сейчас именно «этих», а не «тех» индивидуализаций обусловлено их иерархическим соотношением. Таким образом, внеположность моментов, конституирующая в дальнейшем умалении пространственность, является столь же необходимою, как и становление-погибание всякого. Но в данной индивидуализации возможно лишь сосуществование тех ее моментов, которые актуализуются или уже актуализованы. Из понятия становления вытекает своеобразная преимущественность настоящего и прошлого перед будущим, которое равнозначно им только в высшей индивидуальности, во «всеединстве», если брать это понятие в смысле, придаваемом ему этим контекстом нашего изложения.
Итак, анализ умаленного или стяженного субъекта развития дает нам некоторое общее понятие о его структуре и, поскольку оно является, как формально-общее, в каждом моменте субъекта, общий закон развития исторической индивидуализации или исторического момента, индивидуальности и качествования. В силу принципа всеединства, этот общий закон может быть усмотрен в любой индивидуальности, которая, таким образом, оказывается своего рода микрокосмосом и обосновывает принципиальную правомерность заключений от нее к прочим индивидуальностям «по аналогии». – Всякая историческая индивидуальность, как таковая, возникает из ничто, рождаясь в лоне высшей индивидуальности, или еще не различенной или уже различенной на другие низшие индивидуальности. Возникая в качестве неразличенности и неразличимости, в качестве потенциального своего всеединства, историческая индивидуальность актуализуется или развивается в становлении и погибании своих моментов, частично сосуществующих (причем становление является упорядоченным – временным процессом нарастания) и, обуславливая возможность погибания, умаляется в нем (тоже упорядоченном). Развитие индивидуальности есть, по содержанию своему, индивидуализация бескачественного нечто высшею индивидуальностью и, в конце концов, созидание его из ничто Абсолютным; но в то же самое время оно есть свободное приятие Абсолютного свободно возникающим нечто. Поэтому оно всегда направлено на «заданное» ему Абсолютное, как на свой идеал и свою цель. Оно целесообразно в каждом своем моменте, и в смысле направленности к усовершенности его и в смысле направленности к следующему, мыслимой лишь чрез самоуничтожение первого в высшей индивидуальности.
Самою простою, но и самою грубою формулой устанавливаемого нами положения будет следующая: всякая историческая индивидуальность возникает как нечто новое и единственное, становится и погибает в целостности своей и в каждом своем моменте. Эта формула почти ничего не говорит. Конкретизация ее представляет большие трудности и, главным образом, потому, что становление не отделимо от погибания. Ведь мы не можем даже говорить об абсолютном эмпирическом нарастании. Естественное, казалось бы, понятие абсолютного нарастания или абсолютной «исторической памяти» к эмпирии неприменимо. Преимущественность прошлого перед будущим есть тоже стяженная преимущественность. – Во всеединой стяженной индивидуальности нарастание происходит, и в каждом новом своем моменте она богаче, чем во всех предшествующих вместе. Но из этого отнюдь не вытекает, что каждый последующий момент больше актуализует, раскрывает, дифференцирует в себе стяженное всеединство. Эмпирического апогея развития, по-видимому, указать нельзя. Во всяком случае, если бы существовало эмпирическое нарастание, апогей его совпадал бы с его концом, чего мы не видим в действительности.
Всеединая индивидуальность возникает, развивается до полноты своей (до эмпирически-ограниченной своей полноты) и погибает. Онтологически указанные три момента необходимы в приведенной последовательности. Это значит, что они повторяются в той же последовательности в каждой индивидуализации. Но это значит еще, что они так же повторяются и во всем ряду индивидуализаций (т. е. в высшей индивидуальности), являясь одним из принципов, конституирующих их иерархическое взаимоотношение. Отсюда вытекает, что естественно и даже необходимо в ряду выражающих индивидуальность моментов существование одного, который выражает ее лучше других и является апогеем ее развития.
Но каким образом можно примирить этот вывод с предшествующими нашими утверждениями и каковы признаки апогея, да и существуют ли они? – Все моменты суть качествования индивидуальности, все одинаково необходимы в ее полноте. Но вполне мыслимо, что ценность их различна. И конечно, именно оценкою мы пользуемся при понимании любого развития. Так мы говорим, что Новалис выразил себя в литературном творчестве, наименее ему свойственном, что Эд. фон Гартман или Игнатий Лойола не сразу нашли себя, что для европейской культуры пластика менее характерна, чем архитектура, а архитектура менее, чем музыка и т. п. (ср. § 25). Однако, очевидно – если мы хотим найти объективный критерий для установления момента апогея по качеству момента, мы должны обратиться к религиозному качествованию индивидуальности, т. е. к отношению между нею и Абсолютным (§§ 19, 30). И само собой разумеется, что под «религиозным» не следует понимать узко-религиозное. – Необходимо найти в индивидуальности ее специфическое отношение к Абсолютному, независимо от того, правильно ли она «именует» Абсолютное; но чем правильнее она Его именует и вообще выражает, тем свободнее от субъективных примесей, тем полнее наше знание. Это значит, что в эмпирии должна быть индивидуальность, в своей качественности наиболее полно выражающая Абсолютное. Она, личность Иисуса, есть необходимое условие и начало исторического знания. В ней дан иерархический принцип качественного отношения к Абсолютному. Отношение к Абсолютному есть отношение к полноте Всеединства. Следовательно, определяемый по качественной специфичности своей момент апогея должен вместе с тем быть и наибольшим эмпирическим раскрытием индивидуальности, т. е. отличаться от всех прочих и некоторым формальным преимуществом.
Всякая попытка определить момент апогея только по формальному признаку, без критериев качества момента или степени формального совершенства его – обречена на неудачу.
Степень формального совершенства момента есть степень его приближения к его усовершенности, т. е. к нему самому, как моменту усовершенной индивидуальности и усовершенного всеединства. Приближение, будучи созиданием из ничто в Богобытие, т. е. творческим актом Божества, в то же самое время является и свободным становлением момента, т. е. свободным приятием им в себя Божественности (§ 13). Поэтому приближение – усилие индивидуальности, рост его – рост ее интенсивности. Так возникает первая попытка определить формальную высоту момента: по его интенсивности. – Количественное измерение законно и необходимо в естествознании, причем весьма знаменательно, что в математическом естествознании понятие количества перерождается в понятие системы элементов, как математически выразимого качества. В области психической и социально-психической никакое измерение интенсивности невозможно и даже само сопоставление по интенсивности более, чем сомнительно.
Некоторые, например, склонны считать революцию выражением силы. – С бульшим успехом можно защищать обратный тезис: революция – признак упадка сил. В самом деле, интенсивная повседневная работа, производительный труд в эпоху революции идут на убыль. Революция ничего не создает. Она повторяет формулированные до нее идеи (конечно, и это некоторый труд). Она разрушает (конечно, и это некоторая работа). Если мы сопоставим работу революции с работою более мирных периодов, выводы получатся не в ее пользу. Тогда она предстанет пред нами как нечто подобное истерическому припадку, свидетельствующему, насколько мне известно, о слабости нервов и о неумении иначе осуществить свою волю или себя показать.
Принято отмечать интенсивность жизни и творчества в эпоху Ренессанса. – Знакомство с философией эпохи свидетельствует о несомненном ослаблении мысли по сравнению с XIII–XV веками. И при всем восхищении, которое вызывает искусство Возрождения, надо, пожалуй, признать, что не меньше творческих усилий в готике, в поэзии миннезингеров, в Данте. Я уже не говорю о религиозной стороне жизни. И можно ли сопоставлять эфемерные государства Италии со средневековыми монархиями?
То же самое повторяется, когда мы сопоставляем друг с другом отдельные личности. На первый взгляд, Чезаре Борджиа кажется более могучим, более интенсивным, чем Петрарка. Но еще вопрос: меньше или больше нужно было душевных «сил» для такой дифференциации личности, как у Петрарки. «Бурные гении» кажутся «сильнее» спокойного, гармоничного Гёте, а Гёте, видимо, как-то чувствуя свою недостаточность, любил изображать людей колеблющихся и слабых, на него самого не похожих. Во всех случаях оценки психического по интенсивности возможны бесконечные споры. Невольно возникает вопрос: не является ли понятие интенсивности вечно меняющим свое содержание термином, не сводится ли различие между более и менее интенсивным на различие между единым и многообразным, дифференцированным.
Бергсону не удалось показать отсутствие интенсивности в душевной жизни. Но он указал на весьма важную сторону вопроса – на связь роста интенсивности с дифференциацией. Его мысль следует формулировать точнее. – Дифференциация единства не что иное, как рост интенсивности, взятый с объективной стороны. Но это справедливо лишь при одном очень существенном допущении. Выдвигая дифференциацию как объективную сторону интенсивности, мы молчаливо предполагаем, что первичное единство не умаляется. На самом же деле оно всегда умаляется, хотя и в разной степени. Мы знаем уже (§ 5), что возможно душевное состояние, близкое к двуединству, когда, например, в сознании нашем сосуществуют два качествования. Единство наше меньше, когда мы «рассеяны», когда мы только смутно его переживаем. Оно может быть больше, когда мы сознаем себя своего рода системою состояний сознания; может умалиться до «раздвоения» и «размножения» личности (§ 12). Мыслима успешная защита тезиса, что умаленность всеединства есть «величина постоянная» и выигрываемое в дифференциации проигрывается в единстве, как и обратно. Такой тезис очень даже хорошо согласуется с вытекающим, по-видимому, из предшествующих рассуждений образом момента как индивидуализованного стяженного всеединства, которое меняется в специфичности своей индивидуализации, но, всегда равное себе, стремится вперед по линии развития. – Степень приближения индивидуальности к ее идеалу, с субъективной стороны определяемая как ее интенсивность, с объективной – как жизнь ее единства и дифференциации, не выразима ни для нее в целом ни для ее моментов. Критерия формальной близости к всеединству у нас так же нет, как и критерия качественной преимущественности, если только мы не принимаем указанного выше допущения, т. е. если не признаем какого-либо момента и какой-либо индивидуальности абсолютированными. В этом же случае, на основе догмы Боговоплощения, мы приобретаем критерий и для качественного и для формального сравнения. Как предельно-совершенная в эмпирическом бытии личность, Иисус раскрывает нам в особой, присущей Ему только индивидуализации и высшее качествование и наибольшую в эмпирии формальную полноту Всеединства. Само собой разумеется, что, выдвигая этот тезис, мы еще ничего не решаем: мы лишь ставим проблему единственно-возможным образом. Вопрос о преимущественном качествовании Иисуса и о формальном строении Его личности не так прост, как может казаться с первого взгляда. Решение его теснейшим образом связано с решением вопроса об исповедании, наиболее полно выражающем христианство. Философия истории неизбежно конфессиональна (§ 30).
Эмпирическое развитие всякой исторической индивидуальности (выражаясь точнее – всеединого человечества в целом и во всех его индивидуализирующих личностях (§ 14)), определяется, конкретизируя данную выше формулу, следующими чертами. – Первым хронологическим моментом и началом развития надо считать потенциальное всеединство исторической личности, эмпирически, конечно, ограниченное. Собственно говоря, это потенциальное всеединство лежит за пределами истории, на грани времени и исторического бытия (ср. § 6). Оно неопределимо и непознаваемо никаким образом, никаким методом. Можно сказать даже, что оно не существует. Если обратиться к биологическим аналогиям, его можно сравнить с самым первым моментом бытия зародышевой клетки в чреве матери. В нем совершается переход от небытия к бытию. И первый момент бытия есть наиболее к нему близкий. Это начальное бытие исторической индивидуальности с наибольшей эмпирической полнотой выражает возможное в эмпирии единство. Потенциально-всеединая личность, начиная быть и отделяясь от всеединого человечества, едина в себе самой, еще не дифференцирована, не многообразна.
С тою же уверенностью можем мы наметить следующий момент развития как первично-дифференцированное единство. Оно уже разъединено на моменты и тем самым умалило свое единство. Но в нем единство еще реально пронизывает все моменты, а они, противостоя друг другу, взаимно связаны реальною связью. Ни один из них не обладает стойкостью: они легко возникают и легко исчезают, легко переходят друг в друга, взаимозаменимы, и не раскрывают еще себя. Точно так же не отличается стойкостью и само их единство, то усиливаясь, то слабея и даже исчезая, тем более, что каждый из моментов из себя самого легко воспроизводит это единство, для которого таким образом характерно преобладание «надорганических индивидуальностей» (ср. § 26). Первично-дифференцированное единство не отделено резко и от высших индивидуальностей, им себя не противопоставляя, как не отделено оно резко и от других единств того же порядка. В связи с этим стоит отсутствие в первично-дифференцированном единстве определенных качествовании (§ 19), «синтетичность бытия», в частности – религиозный его характер без обособления религиозности от других качествований. В связи в этим стоит еще интимная, реально-конкретная связь первично-дифференцированного единства с природою.
В дальнейшем развитии возможно умаление единства без роста дифференциации и умаление его в связи с ее ростом. Первый случай в предельности своей является распадом, т. е. смертью индивидуальности. Второй допускает ряд степеней, заранее теоретически не установимых. В общих чертах третий момент развития (со всеми оговорками об условности и относительности нашей характеристики) можно определить, как период органического единства. Отличительными чертами этого периода должны быть функциональная ограниченность и относительная стойкость индивидуализаций, органическое и систематическое их единство, разъединение и внешняя систематизация качествовании, в частности самоопределение и самоограничение религиозности. В связи с этим меняется отношение к высшим личностям и к определенно противостоящим личностям того же порядка, принимая характер внешний, к природе, отъединяемой и потому функционально разъединяющей. В развитии периода органического единства различимы эпоха, когда еще силен надорганический принцип, возвышающий над функциональной ограниченностью сами органы, и эпоха чистой органичности, даже систематичности. Вторая естественно должна привести к последнему моменту развития.
Чисто-органическое бытие индивидуальности есть умаление ее единства, а, следовательно, единства и целостности каждой его индивидуализации, ибо она, утверждая исчерпанность всеединства в системе множества, тем самым отрицает единство как принцип бытия. Органическое единство необходимо вырождается в систематическое и затем погибает в распаде, т. е. в отрыве от высших индивидуальностей, от природы, в разложении системы и ее моментов, в борьбе с другими индивидуальностями. Этот, четвертый момент развития есть погибание социально-психического, материализация личности, уподобление ее неживой природе.
Таким образом, эмпирическое развитие исторической индивидуальности в самых общих чертах определимо четырьмя моментами. От потенциального всеединства индивидуальность развивается в первично-дифференцированное или надорганическое единство, из него – в органическое единство, завершающееся распадом и смертью. Понятно, что смерть индивидуальности может наступить и в любом из моментов, и наша формула дает лишь тип нормального развития. Не содержится в ней и оценки моментов, так как для подобной оценки необходимо применить к развитию религиозный и даже христиански-православный критерий.
И в первый и во второй моменты развития религиозным является все: все стоит в связи с Абсолютным и пронизано отношением к нему. Каждый момент, каждая индивидуализация религиозны не только стяженно и потенциально, но и актуально в меру их собственной актуализации. Религиозно воспринимается и внешний, пространственно-материальный мир. Религиозное не всегда опознается в его специфичности, но оно всегда может быть опознано так и всегда «склонно» к такому его опознанию, непосредственному, неотделимому от опознания и прочих качествований. Во всех схемах развития наблюдается тяготение к тому, чтобы усматривать в намеченной сейчас универсальности религиозного начала только преимущество. Этого преимущества мы отрицать не станем. Но, не усматривая в потенциальности высшего выражения бытия, мы должны указать и обратную сторону – бессознательность, недифференцированность религиозности. В третьем моменте она дифференцируется, но зато она уже не является всеобъемлющим качествованием. Она «освящает» другие качествования – полагается выше их, но и вне их: обособляется сфера религиозного, дифференцирующаяся внутри себя самой на то, что можно связать с терминами догмы, культа, религиозной морали. Вместе с обособлением религиозного качествования и осознающая себя религиозною личность противопоставляет себя Абсолютному, как объекту ее религиозности. По мере утраты личностью надорганического начала, по мере «систематизации» ее, религиозность все более утрачивает первенствующее свое положение. Утрачивая господство, ограничиваясь в органической индивидуальности, ею ограничиваемой, религиозность вытесняется и близится к гибели в четвертый момент развития, в период распада. На чем, в самом деле, покоится, чем обосновано первенство религиозного в системе качествований? Почему не поставить на его место какое-нибудь другое, например – «научное», «общественное»? Раз система вне реальности, трансцендентна, абсолютно религиозность не обоснована. Четвертый момент развития и характеризуется арелигиозностью. Но поскольку распад приводит к сознанию распадающегося, в нем открывается вновь тяга к религиозному, как последнему и единственному основанию прекращающейся жизни (ср. § 30), аскетическая религиозность.
38
Применяя установленную нами схему развития к человечеству в целом, мы получаем основную ткань исторического процесса. История человечества не что иное, как эмпирическое становление и погибание земной Христовой Церкви (следует говорить и о смерти Церкви, раз умер Иисус Христос). С этой точки зрения апогей развития человечества – христианская религиозная культура (§ 30). В ней с наибольшею эмпирической полнотой явлено религиозное качествование, и она сама являет наибольшую полноту формального строения Всеединства. Это вовсе не значит, что другие индивидуализации человечества – другие религиозные культуры не самоценны в своих качествованиях и не раскрывают иных, не данных в христианской, формальных моментов; не значит, что христианство исчерпывает человечество и человеческое, «отменяя» иные культуры. Это не значит также, что именно сейчас момент апогея в развитии самой христианской культуры. Напротив, очень многое говорит за то, что на смену умирающей западно-христианской ее индивидуализации нарождается иная, восточно-христианская или православно-русская (§ 31), может быть и не она одна. Конечно, с этим можно спорить, указывая на возможность иной религии. Но для убежденного в истинности христианства «новая религия» не что иное, как новое христианское исповедание; для допускающего ценность всего религиозного в христианстве высшее из известных нам религиозных миросозерцаний.
Если схема наша правильна, возможно наметить предшествующий или предшествующие моменты развития человечества. Но нет никакой необходимости предполагать, что эти предшествующие моменты всецело предшествуют и хронологически и что развитие человечества требует исходного географического центра. Весьма возможно и, мне кажется, подтверждается всем нам известным историческим материалом, что и ныне человечество частично существует в потенциальном и первично-дифференцированном состоянии. В состоянии потенциальности или первичной дифференцированности должны находиться нарождающиеся ныне культуры, народы, меньшие коллективные индивидуальности, хотя они и пребывают в лоне других, развитых и погибающих, что нередко сбивает исследователя. В силу самой природы всеединства, потенциальность любой исторической личности есть и потенциальность всего человечества в ней. Равным образом дохристианские культуры могут сосуществовать с христианскою. И те из них, которые «умерли», переживают себя в ней, как и еще не рожденные христианские исповедания «предвосхищаются» в существующих ныне (§ 27). Христианская культура определяется не географически и не хронологически: она определяется из ее идеи. В современной Европе частично живут и античность, и египетская, и ассиро-вавилонская культуры: в ней живут и Китай и Индия; как и христианская культура не только в Европе и России, но и в языческих странах Дальнего Востока, как и она «предвосхищается» в религиозных и философских исканиях древности.
Мне кажется, что человечество сейчас находится в органическом периоде своего развития, хотя некоторые из индивидуализирующих его культур и близки к смерти. Именно в применении к высшей исторической индивидуальности – к человечеству более всего необходимо помнить о его всевременности и всепространственности. С другой стороны и схема развития приложима к человечеству в целом лишь при условии ясного различения между ним и его индивидуализациями, о чем особенно забывают теперь, отожествляя «гибель Европы» с гибелью человечества. Она должна быть или отвлеченною схемою или конкретною метафизическою историей (ср. § 17).
Менее спорен и более показателен анализ низших индивидуализаций человечества: религиозных культур и, особенно, культур и народов. В развитии их нетрудно указать основные, намеченные выше моменты. Период первично-дифференцированного единства находит себе прекрасную конкретизацию в ранней истории германства или славянства, отчасти в истории Древнего Рима, менее нам известной. Я бы подчеркнул здесь неустойчивость племенных и надплеменных единств, расы, рода и семьи, значение религии и «натурализм» религиозности. Но я бы настаивал на различении между ранней историей германского народа и началами западно-христианской культуры (§ 27). – Западно-христианская культура возникает только около IX–XI века. Ее второй период полнее всего выражен в так называемом феодализме (X–XII в.); и есть некоторая аналогия между ранними германскими государствами (Арминия – Германа, Марбода и державою Плантагенетов, Норманнским королевством, Империей, Крестовыми походами. Для этой эпохи характерно превращение Церкви в социально-политическую силу, в силу культурную; характерна руководящая роль Церкви, вовсе несводимая на «античную традицию». Для нее показателен религиозный характер Империи. И сама религиозность, слишком часто и односторонне рассматриваемая как пережиток язычества в христианстве, отличается всеобъемлющим своим значением, близостью к природе и жизни. Нет догмы, но есть догматические искания; нет норм морали и права, но они осознаются в бурном их нарушении. И несмотря на всю неопределенность религиозности, обнаруживается ее специфичность – сосредоточение на человеке и человеческой деятельности, предвозвещенное догматическим домыслом о Filioque.[53 - Filioque – «и от Сына», лат. – добавление в Символ веры, первоначально составлявшее единственное догматическое различие между католичеством и православием.]
Не стану указывать на аналогичные моменты в развитии иных культур. Но мне хотелось бы отметить аналогию с современным положением России, где, на мой взгляд, нарождается новая христианская культура, из чего не следует еще, что она и родится (§ 31).
Позднее Средневековье являет собою органический период в развитии западно-европейской культуры, и притом в первой его стадии – с мощным обнаружением надорганических начал в образовании национальностей и государств, в сословном строе и сословной монархии (§ 26), в попытках синтеза религии и науки, венчаемых системою Николая Кузанского. Начиная с Возрождения,[54 - См. мою работу «Джиордано Бруно». Берлин, 1923.] надорганические моменты уступают место органическим. Культура становится системою отношений. Государство из сословного делается монархически-самодержавным, абсолютным, из абсолютного – демократией, рационалистической системой. Общество распадается не на сословия, а на органы-классы. Мировоззрение теряет религиозную основу, и религия становится в ряд с другими качествованиями, в силу чего порывается связь с Абсолютным и культура делается релятивистической. Философия XIX века – система научно-разработанного мировоззрения, т. е. общий термин, чисто словесно объемлющий не вмещаемые в индивидуальное сознание такие же «системы наук». Специалисты (органы) перестают понимать друг друга; между науками вырастают непреодолимые китайские стены из знаков и терминов, «къеккенмедингены» (отбросы пищи) погребают под собою живую мысль. Распад единого миросозерцания, не возмещаемый уже, как до начала XIX в., гениально-односторонними философскими учениями (Декарта, Спинозы, Лейбница и немецких идеалистов), символизирует распад вообще. Фактически торжествует атомистическая теория общества, уничтожающая и атомы и отношения (§§ 36, 26, 16). Это не что иное, как материализация социально-психической личности, умаление ее до степени разъединенно-пространственного, неживого бытия, торжество материализма в самом глубоком смысле слова (§§ 22, 25).
Западно-христианская культура, видимо, погибает. И просыпающаяся в ней религиозность – религиозность старости (§§ 37, 30). Она переходит или уже перешла в четвертый период своего развития. И это нетрудно подтвердить анализом католической и протестантской догматик, диалектически себя исчерпавших и умирающих в западно-европейской философской мысли, которая не иное что, как их умаление. Только такой анализ не может быть произведен мимоходом – тогда ему и цены не будет – и в границах данного исследования. Однако, из сказанного не следует делать неправильных выводов. – Весьма возможно, что на территории Западной Европы нарождается новая христианская культура и возникают новые субъекты развития, отличные и от нарождающегося в России и от нарождающегося в Америке. Возможно, что начинается культура Новой Германии. С другой стороны, и современная западноевропейская культура живет и развивается в России, сосуществуя с местными. В этом смысле ей предстоит еще долгая жизнь. Умирает лишь эта Европа, это пространственно и временно непрерывное культурное единство.