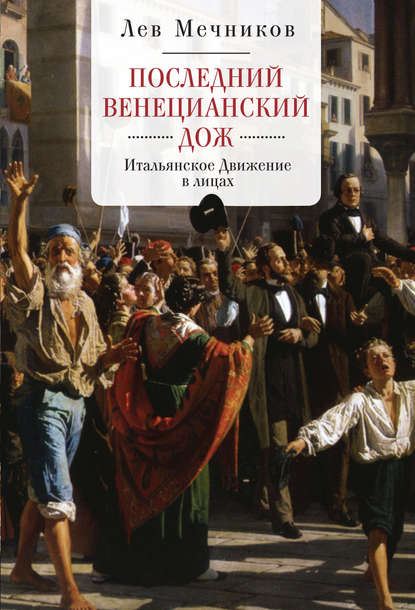По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Целый отряд войска, истощенный трудами и голодом, выведенный из терпения нелепыми строгостями начальников и тем, что больше трех месяцев не получал уже ни копейки жалованья, с неистовством бросился на площадь, громко прося хлеба и денег, грозя разграбить город, если требования его не будут исполнены.
Манин в последний раз вышел на балкон, худой, мрачный, в лихорадке.
– Позор тем негодяям, которые осмеливаются оскорблять Венецию в последние минуты ее жизни! – закричал он глухим голосом: – позор и проклятие! Но пока жив Мании – Corpo del Diavolo![75 - Черт побери! (дословно: Чертово тело!).] – этого в другой раз не случится!
С этими словами он сбежал с лестницы и с ружьем в руке бросился на солдат. Толпа народа бросилась с ним вместе. Солдаты побежали; их гнали таким образом под самые укрепления, где дождем сыпались пули и ядра…
Агония продолжалась. Сиртори удачной вылазкой отбил у неприятеля 50 барок, на которых было около 200 быков (2 августа); но было уже поздно… Холера распространилась в городе в страшных размерах и помогала австрийским батареям усердно.
По истощении и этих запасов, в Венеции не оставалось буквально и куска хлеба. 22-го августа она сдалась Радецкому на капитуляцию. Радецкий со своим главным штабом входил в гавань у Giardini Pubblici, на богато украшенном пароходе; 9 судов уходили с другого конца, нагруженные беглецами, которые сами не знали еще, куда удаляются и что их ждет в будущем. Между ними был и адвокат Мании, с семейством.
* * *
Этим и закончился период административной деятельности Манина; и он, и Венеция выиграли бы оба, если бы период этот не продолжался так долго. Он погубил Венецианскую республику, хотя вовсе не того желал. Он был очень добрый и довольно смышленый практически человек, и в нем не было недостатка ни в энергии, ни в административных способностях. Управление его, конечно, имело и свои хорошие стороны, но я не думаю, чтобы меня упрекнули в пристрастии за то, что я выше не упомянул о них. Я разбирал его, как диктатора, а не как начальника департамента; а его главный недостаток именно в том, что он постоянно оставался порядочным бюрократом там, где нужно было совершенно другое; приверженцем дряхлого порядка, спокойствия, а следовательно и бездействия там, где нужно было вызвать к деятельности все разнообразные силы народонаселения, наэлектризовать их, направить на одно, – а это, конечно, сумел бы делать Манин, отличавшийся до высшей степени развитой способностью рисоваться, производить эффект на массу…
Упрекать Манина за честолюбие, за желание играть роль в политической жизни Венеции – было бы довольно неосновательно, потому что во многих других эти же самые чувства, но соединенные с более блестящими способностями ума, порождали несравненно лучшие результаты.
Положение Манина было затруднительно, правда; многие промахи и недосмотры были неизбежны; но Манина, конечно, осуждают не за эти промахи и недосмотры, хотя и из них некоторые имели чересчур важные и печальные последствия. Главное, однако же, то, что Манин вовсе не понимал ни своего собственного тогдашнего положения, ни положения Венеции и всей Италии. Будучи во главе сильного и молодого еще народа, – на венецианской черни прошедшее не лежит тяжелым грузом, – он должен был сам стать таким же простолюдином, каковы были они; жить их жизнью, сочувствовать их нуждам и выгодам. Они были единственная тогда сила в Венеции, и только опираясь на эту силу, республика могла устоять против Австрии. Манин должен был вызвать в венецианцах всю энергию, к которой они только были способны, стать рядом с ними и забыть все то, что отдаляло его от них. Он делал, однако же, прямо противоположное.
Время было военное, все висело на ниточке. Прежде всего нужно было освободиться из-под Дамоклесовского меча, висевшего над всеми головами, а потом уже думать об остальном. Вопрос был чисто народный, вопрос закоренелой ненависти, физического грубого насилия против святого права; вопрос этот мог решиться только кровью, и только этого решения ждали от Манина. Он же, со всей своей законностью, не сумел или не захотел понять этого; может быть он думал не только о личных своих выгодах; но об чем он думал – до этого мало дела, а делал он много вредного для Венеции…
Ни один из благоразумных и беспристрастных судов не принимает в оправдание подсудимого незнание закона. Тем менее может принять подобное оправдание история, и она назовет Манина убийцей Венецианской республики. Да он даже и не может оправдываться неведением; он знал венецианский народ, иначе он не мог бы по своему произволу ворочать массою. Но он не сочувствовал этому народу и употреблял во вред ему это свое знание. Манину нечего было делать в Венецианской республике 1848–1849 гг.; ему нужна была другая среда, другие зрители, – так как он всю жизнь свою оставался актером; зрители, способные оценить его милую ученость, его лавочническое красноречие. Этой среды в Венеции не было, или, по крайней мере, из страха перед народом, она жила в роскошных дворцах. Манин хотел создать из нее целое сословие, политическую единицу – это была его главная задача. А положение требовало того, чтобы им одним занялись со всем вниманием и безраздельно. Кроме того, понимая, что эта дорогая ему среда необходимо враждебно будет встречена народом, он старался парализовать силы народа в то время, когда все они были нужны…
С бегства из Венеции для него начинается совершенно новая эпоха, и эпоха более блестящая, чем первая. Тут ему представилась полная возможность ласкать свои идеалы, создавать планы, задумывать и передумывать их; не было уже врага, который был готов воспользоваться первым шагом промедления, колебания, нерешимости.
С этих пор, можно сказать, начинается тот Мании, которого прославляет теперешняя конституционная Италия, считая его своим отцом…
* * *
Из Венеции, через Корфу, Манин отправился в Марсель. Тотчас же по приезде его в этот город у него умерла жена, не вынесшая со своим слабым здоровьем тревог последнего времени и неудобств путешествия. Тело его жены было бальзамировано на деньги, собранные по подписке. Французы этим способом думали выказать позднее свое сочувствие к печальному положению Венеции!
Манин был слишком франкоманом, что доказал постоянным своим болезненным стремлением заискивать французское союзничество для Венеции. Поэтому он предпочел остаться во Франции, а не ехать в Англию, как сделали многие из его сотоварищей по изгнанию. Некоторые из его биографов, считающих необходимым находить всевозможные и невозможные добродетели, утверждают, что он уже в это время предвидел будущую политику Наполеона по отношению к Италии. Опровергать можно только то, что можно и доказывать, а не подобные предположения.
До 1854 г. Манин жил в Париже, не принимая никакого, ни прямого, ни косвенного, участия в политических делах. Вскоре после своего прибытия он заседал в собрании итальянских эмигрантов, живших в Париже. Собрание это не решило ничего и положило только придать новую силу постановлению Римского собрания (3 июля 1859 г.)[76 - Постановление это следующего содержания: 15 членов Римского Законодательного собрания, – закрытого вооруженной силой, – собравшись на каком-нибудь уголке свободной итальянской территории, имеют право созвать снова Итальянское Законодательное собрание и все постановления этого нового собрания должны быть признаны законными, если одобрены не менее как 50 членами. – Прим, автора.]. Лондонские итальянские эмигранты признали кроме того за этим новым собранием право определить ту форму правительства, которая должна господствовать на полуострове. Манин во всем этом принимал слишком пассивное участие, может быть потому, что не успел еще опомниться от последних невзгод.
Во Франции он был встречен очень хорошо, и даже самым правительством. Наполеон предложил ему ежегодный, довольно умеренный пансион, от которого он отказался; точно так же отказался он и от довольно значительной суммы, собранной в его пользу в Турине маркизом Паллавичино[77 - Лодовико Паллавичино-Мосси (Pallavicino Mossi\ 1803–1879) – государственный деятель.], но принял в то же время присланную ему незначительную сумму из Венеции, где деньги эти набраны были по преимуществу негоциантами средней руки; подписка, конечно, происходила со всевозможной тайной, потому что австрийское правительство, без всякого сомнения, конфисковало бы деньги и засадило в тюрьму тех, которые этим образом высказывали свою симпатию павшему диктатору.
Изо всего можно заключить, что Мании в деньгах особенно не нуждался. Зимою 1850 г. он открыл в Париже курс итальянской литературы, и хотя с платой за вход, но вовсе не с целью заработать деньги. По крайней мере направление его лекций заставляет предполагать это с полной основательностью. Из писем Манина, относящихся к этому времени, видно, что он обдумывал уже тот план, который развил впоследствии, хотя тоже в довольно общей и неоконченной форме… Он добивался сближения между Италией и Францией, как первого шага к достижению той цели, которую он предположил себе.
Между тем, то видимое бездействие, в котором он проводил свое время, восстановило против него лондонскую эмиграцию, жаждавшую фактов… У Манина завязалась с ней длинная и мелочная полемика, из которой не привожу никаких выписок, так как она не высказывает в Манине ни одной новой черты… Это в сущности та же законная революция, которой долгое время он был единственным оплотом в Венеции. Что же касается до упрека в бездействии, – Италия, а в особенности Венеция должна бы быть очень благодарна за него экс-диктатору, потому что это его бездействие было настолько же ей полезно, насколько гибельна его деятельность.
В 1854 г., при самом начале Восточной войны[78 - То есть Крымской войны.], Манин издал свою первую программу при прокламации к итальянской эмиграции. Он предвидел возможность войны западных держав против Австрии и приглашал своих соотечественников, единодушно и забывая все побочные вопросы, принять сторону того, кто восстанет против Австрии. Он просил особенно отложить до времени всякий вопрос о той форме правительства, которая должна существовать в Италии, прибавляя, что она точно также может быть и республикой, как конституционной монархией, либо под одним скипетром, либо федеративной. Все это, конечно, было не ново; но следующие слова Манина придают колорит его программе.
«Итальянская партия ни в каком случае, – говорит он, – не должна вредить ни Франции, ни Пьемонту – какое бы ни господствовало в их обоих правительство».
Таким образом высказывал Манин свои стремления еще в начале 1854 г.; в последней своей программе он развил их гораздо больше, и в его трех примирительных проектах, найденных после его смерти в его бумагах и распубликованных в свет г. Шассеном (Chassin) – он создает целую правильную систему итальянской политики… Но так как эти проекты стали известны тогда уже, когда бо?льшая часть того, что в них высказано, было приведено в исполнение Кавуром, то я и не считаю долгом говорить о них, а расскажу лучше последовательное развитие этих основных начал самим Манином в журналах того времени. Прибавлю, что Манин был почти единственный тогда итальянский публицист и что все, им тогда высказанное и теперь уже приведенное в исполнение – было новостью для Италии в то время.
Манин поместил большое число отдельных политических статей во французских, английских и итальянских журналах. Чтобы дать в немногих словах понятие о его публицисткой деятельности, достаточно сказать, что он проповедовал то, что делал Кавур. В Италии вообще очень распространено мнение, что Кавур сделал Италию – в этом и разгадка популярности Манина…
Вот несколько образцов его красноречия:
Парижская «Presse» поместила его ответ Джону Росселю (22 марта 1854 г.), в котором Манин говорит следующее по поводу либерализма Австрии и предлагаемого примирения: «Мы хотим только одного – чтобы Австрия оставила нас в покое и со своим либерализмом и с гуманностью; мы хотим сами быть хозяевами в нашем доме… Это один вопрос, занимающий итальянцев – все остальное мелочи, которые мы охотно принесем в жертву главному».
После 49 г., когда именно нежелание подчиниться Пьемонтской администрации с одной стороны, и страх перед триумвирами с другой, погубили Италию – это было слишком смело. Явно Манин сперва хотел заставить своих соотечественников забыть все внутренние вопросы в виду одного самого главного – внешнего единства Италии, чтобы потом удобнее привести их к необходимости сделать итальянским пьемонтское правительство.
Он довольно долго продолжает играть эту индифферентную роль, и только год спустя начинает высказываться определительнее:
«Сделайте Италию, – говорит он пьемонтскому правительству от лица, будто бы, всей итальянской партии, – и мы будем за вас. Если же нет – нет».
Манин очень робко подвигался вперед, и нужно было бы прочесть все его журнальные статьи, чтобы увидеть, как мало-помалу он приводит своих соотечественников к необходимости признать королями Италии королей Савойского дома.
С другой стороны, он успокаивает иностранные правительства на счет Италии. И едва ему удалось провозгласить заранее Пьемонт будущим центром Италии, высказать слабость всех других политических партий на полуострове – он приступил к подписке на приобретение 100 пушек для Италии, и французское правительство не только не помешало ему в этом, но даже само приняло участие в ней. Затем прямо следовали события 1859 г.[79 - В 1859 г. шла Австро-итало-французская война, известная в Италии как Вторая война за независимость Италии, в Австрии как Сардинская война, во Франции как Итальянская кампания, или Война в Италии – военный конфликт между Францией и Сардинским королевством с одной стороны и Австрийской империей с другой.] Вот что сделал для Италии Манин.
Определить точнее его настоящее значение трудно. По отношению его к Кавуру, можно сказать, что он поставлял материалы этому министру; он начинал то, что оканчивал Кавур; но он не был обыкновенным абоцатором[80 - Итальянизм: abbozzatore – подмастерье, готовящий эскизы (abbozzo) для маэстро.], обтесывающим глыбу мрамора, из которой потом художник вырубит прекрасную статую; скорее, он сам был художник, хорошо задумавший большую картину, но не имеющий возможности сам выполнить ее. Кавур пополнял Манина, переводил его на практику. Манин первый составил проект того здания, которое создал Кавур (у Манина оно было только на бумаге), и которое теперь благословляет оба эти имена, которым оно обязано своим существованием. Здание это – теперешняя конституционная Италия, опирающаяся на национальную гвардию, на избирательный ценз, на пушки – Cavalli[81 - Кони.] регулярной армии и на пьемонтских карабинеров с либеральными бородками. Многие великодушно хотели приписать и Гарибальди долю участия в этом сооружении. Они ошибаются: Гарибальди никогда не был сотрудником Манинов и Кавуров – он трудится и теперь, но над другим великим предприятием…
В заключение этого очерка, привожу программу, данную Манином итальянскому национальному обществу, так как в ней в самой полной форме высказались стремления экс-диктатора.
«Итальянское национальное общество признает необходимым поставить единственной своей целью – единство и независимость Италии, отложив в сторону все вопросы касательно внутреннего политического устройства муниципальных и провинциальных интересов.
Оно будет держать свято сторону королей Савойского дома – как самых верных защитников итальянского дела (Causa Italiana) – и поддерживать без различия личного состава всякое сардинское министерство, которое в виду выгод Италии – готово будет забыть чисто пьемонтские вопросы.
Для достижения цели своей – единства Италии – оно считает необходимым содействие народа, и весьма полезным содействие пьемонтского правительства».
Эта программа – политическое духовное завещание Манина. Он умер очень скоро по выходе ее в свет (22 сентября 1857 г.).
По освобождении Милана, труп Манина был перевезен туда из Парижа. Когда снова освободится, наконец, Венеция – если только теперешняя Италия, – Италия Риказоли[82 - Беттино Риказоли, но в соответствии с тосканским произношением – Рикасоли, как теперь и принято транслитерировать) (Ricasoli; 1809–1880) – политический деятель (дважды премьер-министр объединенной Италии), после упразднения Великого герцогства Тосканского в 1859 г. – генерал-губернатор Тосканы, назначенный королем Виктором-Эммануилом П.] и Раттацци[83 - Урбано Раттацци (в тексте: Ратацци) (Rattazzi; 1808–1873) – итальянский политик и государственный деятель, дважды избирался премьер-министром Италии.] – способна освободить ее – в первом порыве восторга венецианцы, может быть, забудут диктатора-Манина и снова побеспокоят бренные остатки Манина-публициста; крики «Viva Manin!» может быть снова раздадутся на площади св. Марка[84 - Именно так все и произошло при перенесении праха Даниеле Манина в Венецию 22 марта 1868 г. и при его погребении в базилике св. Марка (сначала внутри храма, затем – у северной стены, слева от входа).].
Но Мании не был достаточно богат, чтобы подкупить даже суд истории. Вообще мало надежд, чтобы в Венеции кто-либо сумел отделить в нем публициста от диктатора, – да и искупают ли его последние успехи промахи диктаторства?
[Леон Бранди]
Сиена, 16 апреля 1862 г.[85 - Опубликовано в журнале «Современник», № 3–4, 1862.]
Франческо-Доменико Гверацци
I
Венский конгресс создал для Италии положение, ближайшим последствием которого было сконцентрирование всех сил и помыслов этой страны на исключительно политических и патриотических интересах. С этого времени все, что не имело прямого соотношения с насущным вопросом об изменении политических судеб страны, предается пренебрежению и забвению. Науки и художества, относительно еще процветавшие в Италии в конце прошлого столетия, заметно приходят в упадок. Некогда славные университеты, в Пизе, в Болонье, в Падуе, становятся консерваториями отжившей рутины и педантического невежества. Молодежь, поглощенная ненавистью к чужеземным или же доморощенным притеснителям, мало помышляет об учении. Литература также только в таком случае имеет значение, если становится служительницей и пособницей всепоглощающего дела национального освобождения.
Однако ж, это движение не сразу отлилось в определенную национально-унитарную форму, которую окончательно дали ему Мадзини и «Молодая Италия». Во время движения в Романьях (в 1830–1831 гг.)[86 - Патриотические движения в герцогствах Модены и Пармы и в центральных провинциях Италии («Романьях»), находившихся в составе Папского государства. Направленные на установление республиканского правления, были подавлены с помощью Австрии. Герцог Моденский Франциск (Франческо) IV казнил вождей движения Чиро Менотти и Винченцо Борелли.], не говоря уже о предыдущих, карбонарских заговорах и восстаниях, – нет еще и речи об «итальянской нации», о ее «возрождении» и «единстве». Но гораздо раньше, чем Мадзини сумел втеснить итальянскую агитацию в столь свойственные для нее рамки унитаризма, – итальянская нация как-то бессознательно уходит в самое себя, – в свое прошедшее; она отстраняется от остальной Европы и ее умственного и промышленного развития; она замыкается в горделивом презрении во всему чужеземному. Это последнее обстоятельство должно было, конечно, положить некоторую печать застоя и затхлости на всю итальянскую жизнь, умственную и промышленную – затхлости, правда, живительно продуваемой постоянно возрастающим вихрем национального освобождения.
Нельзя, однако ж, сказать, чтобы в первой половине нынешнего века в Италии не являлись таланты и деятели, разнообразные как по самому основному складу своих характеров, так и по разным случайностям своей деятельности и своего развитая; но те общие условия итальянской общественной жизни, которые мы очертили выше, служат неизменным фоном для портрета каждого итальянского деятеля помянутой эпохи. А эта общность фона в значительной степени сглаживает индивидуальные различия даже первостепенной важности. От этого нам представляются родственными и схожими между собою даже такие разнородные образы, как например, идеалист Мадзини с его иерархической и несколько даже экклезиастической законченностью, не допускающей никаких возражений; Феррари[87 - Джузеппе Феррари (Ferrari; 1811–1876) – философ, историк, политик.], враг политических единств вообще и итальянского в особенности, отважный диалектик, не ставящий никаких пределов своей критике и своему скептицизму; Каттанео, демократ и «italianissimo» по мадзиниевскому образцу, но неуклонно ищущий для своих пламенных патриотических планов и пожеланий прочной экономической и рассудительно-научной почвы; Джусти[88 - Джузеппе Джусти (Giusti; 1809–1850), поэт-сатирик; Л. Мечников посвятил ему очерк «О Джузеппе Джусти» (Русское слово, №№ 1 и 3, 1864)], тяжеловесный, но ядовитый сатирик; Леопарди[89 - Джакомо Леопарди (Leopardi', 1798–1837) – поэт-романтик, философ.], с его мрачной лирикой отчаяния, и т. д. Бесспорно, все поименованные здесь деятели весьма разнообразны в самых своих существенных чертах; некоторые из них, например, Мадзини и Феррари, шли по-видимому не только различными путями, но и к различным целям. В жизни, особенно в бурную эпоху 1848 г., им часто приходилось враждебно сталкиваться между собой. Но тем не менее, сила обстоятельств вынуждала каждого из них делать одно и то же общее дело. Самая интересная сторона жизни и деятельности каждого из них есть именно та сторона, которой они связаны с этим единым и как бы неотразимым общим народным делом. Биография каждого из них есть непременно в значительной своей части биография всех остальных.
Гверраци[90 - Иначе Гуэррацци (Francesco Domenico Guerrazzi; 1804–1873).] смолоду представляет нам чрезвычайно интересный пример богато одаренной личности, вступившей в борьбу с общим огуловым строем общества. Уроженец классической страны кротости и мягких уступок – Тосканы, он менее, чем уроженцы остальных углов полуострова, несет на себе тяжелый гнет системы, навязанной Австрией всей Италии; а потому он и слабее протестует против этой системы, легче и скорее перерастает наиболее непосредственную и первобытную форму узко-политического и узко-патриотического протеста. Живя в торговом Ливорно[91 - Гверраци родился в Ливорно (12 августа 1804 г.).], он с детства осваивается с самыми разнообразными национальностями, а его художественно-восприимчивая и сосредоточенная натура не допускает его относиться к чужеземцам с тем величавым, но ограниченным презрением, которым его соотечественники платили Европе за свое собственное жалкое и униженное политическое положение. Наконец, ознакомясь с малолетства с корыстной, но живительной суетой, наполняющей жизнь трудового народа, он приобретает способность даже в порывах своего крайнего романтического увлечения, не отрываться вовсе от реальной почвы. Несмотря на все причуды и порывы его необузданной фантазии, настроенной на сильно преувеличенный тон в роде Виктора Гюго, несмотря на страстную привязанность к эффекту и оригинальности, характеризующую вообще писателей так называемого романтического направления, Гверраци ни в одном своем произведении не покидает реальной почвы.
По году рождения и по началу своей деятельности, Гверраци почти сверстник Мадзини. Оба они – Мадзини в Генуе, Гверраци в Ливорно – с детства чутко воспринимают «дух времени». Оба они развивают в себе с молоком матери всосанные симпатии и антипатии раньше и живее, чем большинство итальянских молодых людей, не столь счастливо одаренных природой и воспользовавшихся менее серьезным первоначальным воспитанием. Оба уже в университетской аудитории являются с определенным сознанием, что до сих пор сделано слишком мало для осуществления тех идей, которым они служат; с горячим желанием сделать больше и с непоколебимой верой в свои силы. Не достигнув еще двадцатилетнего возраста, Гверраци открывает свою пропаганду в журнале «Ливорнский Указатель», в то самое время, как Мадзини начинаете приобретать известность в Лигурии и в Пьемонте своим журналом «Генуэзский Указатель».
Оба эти журнала, сходные по названию, по духу, по значению и по некоторым подробностям, однако ж, разнятся между собой, и тот, кто дал бы себе труд внимательно сличить эти юношеские пропагандистские опыты двух впоследствии знаменитых деятелей, без труда предсказал бы им различную судьбу. Разница во многих отношениях оказывается в пользу «Ливорнского Указателя». Не говоря уже о том, что меньшая строгость цензуры в Тоскане, чем в Пьемонте, дает возможность Гверраци более ясно и откровенно высказывать свои мысли, «Ливорнский Указатель» менее односторонен и исключителен, чем «Генузский». Он преследует менее широкую, но зато и менее отдаленную, более определенную, легче уловимую цель: втянуть итальянское общество в водоворот общеевропейского умственного и литературного движения. Как Мадзини, так и Гверраци вынуждены изощрять свое юношеское перо над иностранными художественными произведениями. Но для Мадзини все, о чем бы он ни говорил, – не более как повод или предлог внушать своим соотечественникам мысль о необходимости немедленной прикладной политической деятельности, об организации живых и деятельных сил страны: агитатор в Мадзини едва ли не с детства стоит всегда на первом плане. Гверраци же в «Ливорнском Указателе» выступает уже более художником, чем организатором; более живым и мыслящим человеком, чем предвозвестником близких преобразований. Отсюда преимущество живости на его стороне.
Манин в последний раз вышел на балкон, худой, мрачный, в лихорадке.
– Позор тем негодяям, которые осмеливаются оскорблять Венецию в последние минуты ее жизни! – закричал он глухим голосом: – позор и проклятие! Но пока жив Мании – Corpo del Diavolo![75 - Черт побери! (дословно: Чертово тело!).] – этого в другой раз не случится!
С этими словами он сбежал с лестницы и с ружьем в руке бросился на солдат. Толпа народа бросилась с ним вместе. Солдаты побежали; их гнали таким образом под самые укрепления, где дождем сыпались пули и ядра…
Агония продолжалась. Сиртори удачной вылазкой отбил у неприятеля 50 барок, на которых было около 200 быков (2 августа); но было уже поздно… Холера распространилась в городе в страшных размерах и помогала австрийским батареям усердно.
По истощении и этих запасов, в Венеции не оставалось буквально и куска хлеба. 22-го августа она сдалась Радецкому на капитуляцию. Радецкий со своим главным штабом входил в гавань у Giardini Pubblici, на богато украшенном пароходе; 9 судов уходили с другого конца, нагруженные беглецами, которые сами не знали еще, куда удаляются и что их ждет в будущем. Между ними был и адвокат Мании, с семейством.
* * *
Этим и закончился период административной деятельности Манина; и он, и Венеция выиграли бы оба, если бы период этот не продолжался так долго. Он погубил Венецианскую республику, хотя вовсе не того желал. Он был очень добрый и довольно смышленый практически человек, и в нем не было недостатка ни в энергии, ни в административных способностях. Управление его, конечно, имело и свои хорошие стороны, но я не думаю, чтобы меня упрекнули в пристрастии за то, что я выше не упомянул о них. Я разбирал его, как диктатора, а не как начальника департамента; а его главный недостаток именно в том, что он постоянно оставался порядочным бюрократом там, где нужно было совершенно другое; приверженцем дряхлого порядка, спокойствия, а следовательно и бездействия там, где нужно было вызвать к деятельности все разнообразные силы народонаселения, наэлектризовать их, направить на одно, – а это, конечно, сумел бы делать Манин, отличавшийся до высшей степени развитой способностью рисоваться, производить эффект на массу…
Упрекать Манина за честолюбие, за желание играть роль в политической жизни Венеции – было бы довольно неосновательно, потому что во многих других эти же самые чувства, но соединенные с более блестящими способностями ума, порождали несравненно лучшие результаты.
Положение Манина было затруднительно, правда; многие промахи и недосмотры были неизбежны; но Манина, конечно, осуждают не за эти промахи и недосмотры, хотя и из них некоторые имели чересчур важные и печальные последствия. Главное, однако же, то, что Манин вовсе не понимал ни своего собственного тогдашнего положения, ни положения Венеции и всей Италии. Будучи во главе сильного и молодого еще народа, – на венецианской черни прошедшее не лежит тяжелым грузом, – он должен был сам стать таким же простолюдином, каковы были они; жить их жизнью, сочувствовать их нуждам и выгодам. Они были единственная тогда сила в Венеции, и только опираясь на эту силу, республика могла устоять против Австрии. Манин должен был вызвать в венецианцах всю энергию, к которой они только были способны, стать рядом с ними и забыть все то, что отдаляло его от них. Он делал, однако же, прямо противоположное.
Время было военное, все висело на ниточке. Прежде всего нужно было освободиться из-под Дамоклесовского меча, висевшего над всеми головами, а потом уже думать об остальном. Вопрос был чисто народный, вопрос закоренелой ненависти, физического грубого насилия против святого права; вопрос этот мог решиться только кровью, и только этого решения ждали от Манина. Он же, со всей своей законностью, не сумел или не захотел понять этого; может быть он думал не только о личных своих выгодах; но об чем он думал – до этого мало дела, а делал он много вредного для Венеции…
Ни один из благоразумных и беспристрастных судов не принимает в оправдание подсудимого незнание закона. Тем менее может принять подобное оправдание история, и она назовет Манина убийцей Венецианской республики. Да он даже и не может оправдываться неведением; он знал венецианский народ, иначе он не мог бы по своему произволу ворочать массою. Но он не сочувствовал этому народу и употреблял во вред ему это свое знание. Манину нечего было делать в Венецианской республике 1848–1849 гг.; ему нужна была другая среда, другие зрители, – так как он всю жизнь свою оставался актером; зрители, способные оценить его милую ученость, его лавочническое красноречие. Этой среды в Венеции не было, или, по крайней мере, из страха перед народом, она жила в роскошных дворцах. Манин хотел создать из нее целое сословие, политическую единицу – это была его главная задача. А положение требовало того, чтобы им одним занялись со всем вниманием и безраздельно. Кроме того, понимая, что эта дорогая ему среда необходимо враждебно будет встречена народом, он старался парализовать силы народа в то время, когда все они были нужны…
С бегства из Венеции для него начинается совершенно новая эпоха, и эпоха более блестящая, чем первая. Тут ему представилась полная возможность ласкать свои идеалы, создавать планы, задумывать и передумывать их; не было уже врага, который был готов воспользоваться первым шагом промедления, колебания, нерешимости.
С этих пор, можно сказать, начинается тот Мании, которого прославляет теперешняя конституционная Италия, считая его своим отцом…
* * *
Из Венеции, через Корфу, Манин отправился в Марсель. Тотчас же по приезде его в этот город у него умерла жена, не вынесшая со своим слабым здоровьем тревог последнего времени и неудобств путешествия. Тело его жены было бальзамировано на деньги, собранные по подписке. Французы этим способом думали выказать позднее свое сочувствие к печальному положению Венеции!
Манин был слишком франкоманом, что доказал постоянным своим болезненным стремлением заискивать французское союзничество для Венеции. Поэтому он предпочел остаться во Франции, а не ехать в Англию, как сделали многие из его сотоварищей по изгнанию. Некоторые из его биографов, считающих необходимым находить всевозможные и невозможные добродетели, утверждают, что он уже в это время предвидел будущую политику Наполеона по отношению к Италии. Опровергать можно только то, что можно и доказывать, а не подобные предположения.
До 1854 г. Манин жил в Париже, не принимая никакого, ни прямого, ни косвенного, участия в политических делах. Вскоре после своего прибытия он заседал в собрании итальянских эмигрантов, живших в Париже. Собрание это не решило ничего и положило только придать новую силу постановлению Римского собрания (3 июля 1859 г.)[76 - Постановление это следующего содержания: 15 членов Римского Законодательного собрания, – закрытого вооруженной силой, – собравшись на каком-нибудь уголке свободной итальянской территории, имеют право созвать снова Итальянское Законодательное собрание и все постановления этого нового собрания должны быть признаны законными, если одобрены не менее как 50 членами. – Прим, автора.]. Лондонские итальянские эмигранты признали кроме того за этим новым собранием право определить ту форму правительства, которая должна господствовать на полуострове. Манин во всем этом принимал слишком пассивное участие, может быть потому, что не успел еще опомниться от последних невзгод.
Во Франции он был встречен очень хорошо, и даже самым правительством. Наполеон предложил ему ежегодный, довольно умеренный пансион, от которого он отказался; точно так же отказался он и от довольно значительной суммы, собранной в его пользу в Турине маркизом Паллавичино[77 - Лодовико Паллавичино-Мосси (Pallavicino Mossi\ 1803–1879) – государственный деятель.], но принял в то же время присланную ему незначительную сумму из Венеции, где деньги эти набраны были по преимуществу негоциантами средней руки; подписка, конечно, происходила со всевозможной тайной, потому что австрийское правительство, без всякого сомнения, конфисковало бы деньги и засадило в тюрьму тех, которые этим образом высказывали свою симпатию павшему диктатору.
Изо всего можно заключить, что Мании в деньгах особенно не нуждался. Зимою 1850 г. он открыл в Париже курс итальянской литературы, и хотя с платой за вход, но вовсе не с целью заработать деньги. По крайней мере направление его лекций заставляет предполагать это с полной основательностью. Из писем Манина, относящихся к этому времени, видно, что он обдумывал уже тот план, который развил впоследствии, хотя тоже в довольно общей и неоконченной форме… Он добивался сближения между Италией и Францией, как первого шага к достижению той цели, которую он предположил себе.
Между тем, то видимое бездействие, в котором он проводил свое время, восстановило против него лондонскую эмиграцию, жаждавшую фактов… У Манина завязалась с ней длинная и мелочная полемика, из которой не привожу никаких выписок, так как она не высказывает в Манине ни одной новой черты… Это в сущности та же законная революция, которой долгое время он был единственным оплотом в Венеции. Что же касается до упрека в бездействии, – Италия, а в особенности Венеция должна бы быть очень благодарна за него экс-диктатору, потому что это его бездействие было настолько же ей полезно, насколько гибельна его деятельность.
В 1854 г., при самом начале Восточной войны[78 - То есть Крымской войны.], Манин издал свою первую программу при прокламации к итальянской эмиграции. Он предвидел возможность войны западных держав против Австрии и приглашал своих соотечественников, единодушно и забывая все побочные вопросы, принять сторону того, кто восстанет против Австрии. Он просил особенно отложить до времени всякий вопрос о той форме правительства, которая должна существовать в Италии, прибавляя, что она точно также может быть и республикой, как конституционной монархией, либо под одним скипетром, либо федеративной. Все это, конечно, было не ново; но следующие слова Манина придают колорит его программе.
«Итальянская партия ни в каком случае, – говорит он, – не должна вредить ни Франции, ни Пьемонту – какое бы ни господствовало в их обоих правительство».
Таким образом высказывал Манин свои стремления еще в начале 1854 г.; в последней своей программе он развил их гораздо больше, и в его трех примирительных проектах, найденных после его смерти в его бумагах и распубликованных в свет г. Шассеном (Chassin) – он создает целую правильную систему итальянской политики… Но так как эти проекты стали известны тогда уже, когда бо?льшая часть того, что в них высказано, было приведено в исполнение Кавуром, то я и не считаю долгом говорить о них, а расскажу лучше последовательное развитие этих основных начал самим Манином в журналах того времени. Прибавлю, что Манин был почти единственный тогда итальянский публицист и что все, им тогда высказанное и теперь уже приведенное в исполнение – было новостью для Италии в то время.
Манин поместил большое число отдельных политических статей во французских, английских и итальянских журналах. Чтобы дать в немногих словах понятие о его публицисткой деятельности, достаточно сказать, что он проповедовал то, что делал Кавур. В Италии вообще очень распространено мнение, что Кавур сделал Италию – в этом и разгадка популярности Манина…
Вот несколько образцов его красноречия:
Парижская «Presse» поместила его ответ Джону Росселю (22 марта 1854 г.), в котором Манин говорит следующее по поводу либерализма Австрии и предлагаемого примирения: «Мы хотим только одного – чтобы Австрия оставила нас в покое и со своим либерализмом и с гуманностью; мы хотим сами быть хозяевами в нашем доме… Это один вопрос, занимающий итальянцев – все остальное мелочи, которые мы охотно принесем в жертву главному».
После 49 г., когда именно нежелание подчиниться Пьемонтской администрации с одной стороны, и страх перед триумвирами с другой, погубили Италию – это было слишком смело. Явно Манин сперва хотел заставить своих соотечественников забыть все внутренние вопросы в виду одного самого главного – внешнего единства Италии, чтобы потом удобнее привести их к необходимости сделать итальянским пьемонтское правительство.
Он довольно долго продолжает играть эту индифферентную роль, и только год спустя начинает высказываться определительнее:
«Сделайте Италию, – говорит он пьемонтскому правительству от лица, будто бы, всей итальянской партии, – и мы будем за вас. Если же нет – нет».
Манин очень робко подвигался вперед, и нужно было бы прочесть все его журнальные статьи, чтобы увидеть, как мало-помалу он приводит своих соотечественников к необходимости признать королями Италии королей Савойского дома.
С другой стороны, он успокаивает иностранные правительства на счет Италии. И едва ему удалось провозгласить заранее Пьемонт будущим центром Италии, высказать слабость всех других политических партий на полуострове – он приступил к подписке на приобретение 100 пушек для Италии, и французское правительство не только не помешало ему в этом, но даже само приняло участие в ней. Затем прямо следовали события 1859 г.[79 - В 1859 г. шла Австро-итало-французская война, известная в Италии как Вторая война за независимость Италии, в Австрии как Сардинская война, во Франции как Итальянская кампания, или Война в Италии – военный конфликт между Францией и Сардинским королевством с одной стороны и Австрийской империей с другой.] Вот что сделал для Италии Манин.
Определить точнее его настоящее значение трудно. По отношению его к Кавуру, можно сказать, что он поставлял материалы этому министру; он начинал то, что оканчивал Кавур; но он не был обыкновенным абоцатором[80 - Итальянизм: abbozzatore – подмастерье, готовящий эскизы (abbozzo) для маэстро.], обтесывающим глыбу мрамора, из которой потом художник вырубит прекрасную статую; скорее, он сам был художник, хорошо задумавший большую картину, но не имеющий возможности сам выполнить ее. Кавур пополнял Манина, переводил его на практику. Манин первый составил проект того здания, которое создал Кавур (у Манина оно было только на бумаге), и которое теперь благословляет оба эти имена, которым оно обязано своим существованием. Здание это – теперешняя конституционная Италия, опирающаяся на национальную гвардию, на избирательный ценз, на пушки – Cavalli[81 - Кони.] регулярной армии и на пьемонтских карабинеров с либеральными бородками. Многие великодушно хотели приписать и Гарибальди долю участия в этом сооружении. Они ошибаются: Гарибальди никогда не был сотрудником Манинов и Кавуров – он трудится и теперь, но над другим великим предприятием…
В заключение этого очерка, привожу программу, данную Манином итальянскому национальному обществу, так как в ней в самой полной форме высказались стремления экс-диктатора.
«Итальянское национальное общество признает необходимым поставить единственной своей целью – единство и независимость Италии, отложив в сторону все вопросы касательно внутреннего политического устройства муниципальных и провинциальных интересов.
Оно будет держать свято сторону королей Савойского дома – как самых верных защитников итальянского дела (Causa Italiana) – и поддерживать без различия личного состава всякое сардинское министерство, которое в виду выгод Италии – готово будет забыть чисто пьемонтские вопросы.
Для достижения цели своей – единства Италии – оно считает необходимым содействие народа, и весьма полезным содействие пьемонтского правительства».
Эта программа – политическое духовное завещание Манина. Он умер очень скоро по выходе ее в свет (22 сентября 1857 г.).
По освобождении Милана, труп Манина был перевезен туда из Парижа. Когда снова освободится, наконец, Венеция – если только теперешняя Италия, – Италия Риказоли[82 - Беттино Риказоли, но в соответствии с тосканским произношением – Рикасоли, как теперь и принято транслитерировать) (Ricasoli; 1809–1880) – политический деятель (дважды премьер-министр объединенной Италии), после упразднения Великого герцогства Тосканского в 1859 г. – генерал-губернатор Тосканы, назначенный королем Виктором-Эммануилом П.] и Раттацци[83 - Урбано Раттацци (в тексте: Ратацци) (Rattazzi; 1808–1873) – итальянский политик и государственный деятель, дважды избирался премьер-министром Италии.] – способна освободить ее – в первом порыве восторга венецианцы, может быть, забудут диктатора-Манина и снова побеспокоят бренные остатки Манина-публициста; крики «Viva Manin!» может быть снова раздадутся на площади св. Марка[84 - Именно так все и произошло при перенесении праха Даниеле Манина в Венецию 22 марта 1868 г. и при его погребении в базилике св. Марка (сначала внутри храма, затем – у северной стены, слева от входа).].
Но Мании не был достаточно богат, чтобы подкупить даже суд истории. Вообще мало надежд, чтобы в Венеции кто-либо сумел отделить в нем публициста от диктатора, – да и искупают ли его последние успехи промахи диктаторства?
[Леон Бранди]
Сиена, 16 апреля 1862 г.[85 - Опубликовано в журнале «Современник», № 3–4, 1862.]
Франческо-Доменико Гверацци
I
Венский конгресс создал для Италии положение, ближайшим последствием которого было сконцентрирование всех сил и помыслов этой страны на исключительно политических и патриотических интересах. С этого времени все, что не имело прямого соотношения с насущным вопросом об изменении политических судеб страны, предается пренебрежению и забвению. Науки и художества, относительно еще процветавшие в Италии в конце прошлого столетия, заметно приходят в упадок. Некогда славные университеты, в Пизе, в Болонье, в Падуе, становятся консерваториями отжившей рутины и педантического невежества. Молодежь, поглощенная ненавистью к чужеземным или же доморощенным притеснителям, мало помышляет об учении. Литература также только в таком случае имеет значение, если становится служительницей и пособницей всепоглощающего дела национального освобождения.
Однако ж, это движение не сразу отлилось в определенную национально-унитарную форму, которую окончательно дали ему Мадзини и «Молодая Италия». Во время движения в Романьях (в 1830–1831 гг.)[86 - Патриотические движения в герцогствах Модены и Пармы и в центральных провинциях Италии («Романьях»), находившихся в составе Папского государства. Направленные на установление республиканского правления, были подавлены с помощью Австрии. Герцог Моденский Франциск (Франческо) IV казнил вождей движения Чиро Менотти и Винченцо Борелли.], не говоря уже о предыдущих, карбонарских заговорах и восстаниях, – нет еще и речи об «итальянской нации», о ее «возрождении» и «единстве». Но гораздо раньше, чем Мадзини сумел втеснить итальянскую агитацию в столь свойственные для нее рамки унитаризма, – итальянская нация как-то бессознательно уходит в самое себя, – в свое прошедшее; она отстраняется от остальной Европы и ее умственного и промышленного развития; она замыкается в горделивом презрении во всему чужеземному. Это последнее обстоятельство должно было, конечно, положить некоторую печать застоя и затхлости на всю итальянскую жизнь, умственную и промышленную – затхлости, правда, живительно продуваемой постоянно возрастающим вихрем национального освобождения.
Нельзя, однако ж, сказать, чтобы в первой половине нынешнего века в Италии не являлись таланты и деятели, разнообразные как по самому основному складу своих характеров, так и по разным случайностям своей деятельности и своего развитая; но те общие условия итальянской общественной жизни, которые мы очертили выше, служат неизменным фоном для портрета каждого итальянского деятеля помянутой эпохи. А эта общность фона в значительной степени сглаживает индивидуальные различия даже первостепенной важности. От этого нам представляются родственными и схожими между собою даже такие разнородные образы, как например, идеалист Мадзини с его иерархической и несколько даже экклезиастической законченностью, не допускающей никаких возражений; Феррари[87 - Джузеппе Феррари (Ferrari; 1811–1876) – философ, историк, политик.], враг политических единств вообще и итальянского в особенности, отважный диалектик, не ставящий никаких пределов своей критике и своему скептицизму; Каттанео, демократ и «italianissimo» по мадзиниевскому образцу, но неуклонно ищущий для своих пламенных патриотических планов и пожеланий прочной экономической и рассудительно-научной почвы; Джусти[88 - Джузеппе Джусти (Giusti; 1809–1850), поэт-сатирик; Л. Мечников посвятил ему очерк «О Джузеппе Джусти» (Русское слово, №№ 1 и 3, 1864)], тяжеловесный, но ядовитый сатирик; Леопарди[89 - Джакомо Леопарди (Leopardi', 1798–1837) – поэт-романтик, философ.], с его мрачной лирикой отчаяния, и т. д. Бесспорно, все поименованные здесь деятели весьма разнообразны в самых своих существенных чертах; некоторые из них, например, Мадзини и Феррари, шли по-видимому не только различными путями, но и к различным целям. В жизни, особенно в бурную эпоху 1848 г., им часто приходилось враждебно сталкиваться между собой. Но тем не менее, сила обстоятельств вынуждала каждого из них делать одно и то же общее дело. Самая интересная сторона жизни и деятельности каждого из них есть именно та сторона, которой они связаны с этим единым и как бы неотразимым общим народным делом. Биография каждого из них есть непременно в значительной своей части биография всех остальных.
Гверраци[90 - Иначе Гуэррацци (Francesco Domenico Guerrazzi; 1804–1873).] смолоду представляет нам чрезвычайно интересный пример богато одаренной личности, вступившей в борьбу с общим огуловым строем общества. Уроженец классической страны кротости и мягких уступок – Тосканы, он менее, чем уроженцы остальных углов полуострова, несет на себе тяжелый гнет системы, навязанной Австрией всей Италии; а потому он и слабее протестует против этой системы, легче и скорее перерастает наиболее непосредственную и первобытную форму узко-политического и узко-патриотического протеста. Живя в торговом Ливорно[91 - Гверраци родился в Ливорно (12 августа 1804 г.).], он с детства осваивается с самыми разнообразными национальностями, а его художественно-восприимчивая и сосредоточенная натура не допускает его относиться к чужеземцам с тем величавым, но ограниченным презрением, которым его соотечественники платили Европе за свое собственное жалкое и униженное политическое положение. Наконец, ознакомясь с малолетства с корыстной, но живительной суетой, наполняющей жизнь трудового народа, он приобретает способность даже в порывах своего крайнего романтического увлечения, не отрываться вовсе от реальной почвы. Несмотря на все причуды и порывы его необузданной фантазии, настроенной на сильно преувеличенный тон в роде Виктора Гюго, несмотря на страстную привязанность к эффекту и оригинальности, характеризующую вообще писателей так называемого романтического направления, Гверраци ни в одном своем произведении не покидает реальной почвы.
По году рождения и по началу своей деятельности, Гверраци почти сверстник Мадзини. Оба они – Мадзини в Генуе, Гверраци в Ливорно – с детства чутко воспринимают «дух времени». Оба они развивают в себе с молоком матери всосанные симпатии и антипатии раньше и живее, чем большинство итальянских молодых людей, не столь счастливо одаренных природой и воспользовавшихся менее серьезным первоначальным воспитанием. Оба уже в университетской аудитории являются с определенным сознанием, что до сих пор сделано слишком мало для осуществления тех идей, которым они служат; с горячим желанием сделать больше и с непоколебимой верой в свои силы. Не достигнув еще двадцатилетнего возраста, Гверраци открывает свою пропаганду в журнале «Ливорнский Указатель», в то самое время, как Мадзини начинаете приобретать известность в Лигурии и в Пьемонте своим журналом «Генуэзский Указатель».
Оба эти журнала, сходные по названию, по духу, по значению и по некоторым подробностям, однако ж, разнятся между собой, и тот, кто дал бы себе труд внимательно сличить эти юношеские пропагандистские опыты двух впоследствии знаменитых деятелей, без труда предсказал бы им различную судьбу. Разница во многих отношениях оказывается в пользу «Ливорнского Указателя». Не говоря уже о том, что меньшая строгость цензуры в Тоскане, чем в Пьемонте, дает возможность Гверраци более ясно и откровенно высказывать свои мысли, «Ливорнский Указатель» менее односторонен и исключителен, чем «Генузский». Он преследует менее широкую, но зато и менее отдаленную, более определенную, легче уловимую цель: втянуть итальянское общество в водоворот общеевропейского умственного и литературного движения. Как Мадзини, так и Гверраци вынуждены изощрять свое юношеское перо над иностранными художественными произведениями. Но для Мадзини все, о чем бы он ни говорил, – не более как повод или предлог внушать своим соотечественникам мысль о необходимости немедленной прикладной политической деятельности, об организации живых и деятельных сил страны: агитатор в Мадзини едва ли не с детства стоит всегда на первом плане. Гверраци же в «Ливорнском Указателе» выступает уже более художником, чем организатором; более живым и мыслящим человеком, чем предвозвестником близких преобразований. Отсюда преимущество живости на его стороне.