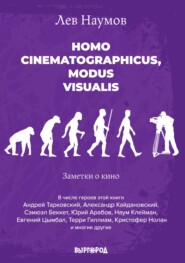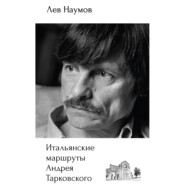По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гипотеза Дедала
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще больше проблем обнаруживалось в философских доктринах, так или иначе постулирующих отсутствие смысла бытия. Гюнтер обратил внимание на то, что если его нет, то знание и передача этой «благой вести» становится не только бессмысленной, но зачастую вообще невозможной.
В качестве примера рассмотрим доктрину экзистенциализма. Итак, пусть объективной общей истины не существует. Тем не менее существуют частные, обладающие свойством экзистенциальности, то есть связанные с отдельным человеком, конкретным прецедентом бытия. Если субъекту что-то кажется истинным, то это характеризует исключительно субъект, и больше ничего. Такую истину нельзя делегировать, преподнести кому-то другому, в том числе и читателю философских трактатов. Точнее, в интересах каждого конкретного субъекта не опираться на чужие истины, но только на свои, экзистенциальные.
Теми или иными словами именно это сообщает широкий круг мыслителей от Кьеркегора и Ясперса до Сартра и Камю. В том случае если они ошибаются, то практического смысла в знакомстве с их трудами нет, кроме разве что расширения кругозора еще одним людским заблуждением. Но если они правы, то дела куда печальнее, ведь универсальной истиной сказанное быть не может, а какое нам дело до неделегируемых истин чужих прецедентов бытия?
Нужно все-таки отметить, что экзистенциализм, особенно в сартровском варианте – не стоит думать, будто внимание Гюнтера было сфокусировано исключительно на немецких мыслителях, – казался ему достаточно резонным, но не в этом дело. Допустим, что некий философ создал концепцию, которая деформирует категорию смысла. Какие в таком случае средства остаются у автора для того, чтобы донести до читателя зерно обнаруженной, пусть и мнимой истины, таящееся в этой концепции? Можно ли предугадать червоточину, заложенную в рациональном построении, которая разрушит его под действием внешних исторических обстоятельств, при условии того, что сами эти обстоятельства на момент создания доктрины невозможно себе даже вообразить? А может, обстоятельства ни при чем? Может, некое учение – это как раз та самая константа, которая обнажает неуклонное изменение человека как биологического вида? Вот такие вопросы занимали Гюнтера.
Еще раз повторю, его работы – предмет для отдельного и подробного разговора, но есть одна гипотеза, прекрасная настолько, что если из всего им созданного в людской памяти сохранится только она – это уже будет неплохо.
К сожалению, ее невозможно сформулировать и передать словами автора, поскольку отдельного описания Гюнтер не оставил. Нечего процитировать, не на что сослаться… Однако до нас дошли опирающиеся на нее труды, с помощью и на основании которых можно попытаться ее изложить. В силу этого я должен признаться, что существование некой гипотезы, стоящей за позднейшими работами Гюнтера, это по большому счету мои домыслы. Тем не менее, сколько бы я ни размышлял, никаких других объяснений появления этих текстов придумать мне не удалось. Кроме разве что самого печального предположения. Но даже допустить мысль о том, что итоговые труды жизни моего друга были не более чем помутнением его рассудка, я не могу.
Около десяти лет назад Гюнтер изрядно удивил всех тех, кто входил в его ближний круг, кому он в первую очередь показывал свои тексты. Из-под пера мыслителя вышел удивительно наивный, если не сказать смехотворный, космогонический трактат, значительно уступающий в обоснованности даже тем, что были написаны пять, шесть, семь, восемь столетий назад. Собственно, это сочинение и походило скорее на литературную стилизацию под произведения богословов Средних веков или эпохи Возрождения, нежели на результат философских размышлений современника. Относиться к этому тексту серьезно отказывались решительно все. Большинство от души посмеялись, тогда как отдельные злые языки сразу начали поговаривать, будто Гюнтер сошел с ума.
Когда он выдал на-гора третий подобный труд, описывающий происхождение людей от подводных камней, а также развивающий представление о том, что внутри каждого человека находятся пять птиц, отличающихся размером и повадками, всеобщее веселье сменилось настороженностью. Многие тогда отвернулись и тихо ушли из его жизни, поскольку говорить Гюнтеру о том, что его светлый и яркий разум более не существует, никто не хотел. Именно поэтому, когда через несколько лет он и сам исчез, никакого резонанса не последовало. Те, кто его еще помнил, сделали вид, будто ничего таинственного в этой истории нет, просто безумец, вероятно, решил, никого не предупреждая, уединиться в какой-то келье и продолжить творить свои абсурдные тексты.
Но прежде чем уйти, Гюнтер написал еще немало. Он вообще был чрезвычайно плодовитым мыслителем. Тогда-то я и подумал, что раз мозг не изменяет ему в смысле количества порождаемых идей, почему же все решили, будто он подведет своего обладателя в смысле качества? Моя логика тут небесспорна, однако призна?юсь, что именно по этой причине я принялся внимательно перечитывать его труды и довольно скоро понял, в каком же ужасном, несправедливом и недальновидном заблуждении пребывает большинство наших общих знакомых. Ведь этими текстами Гюнтер, быть может, начал и с успехом вел самую важную часть своей работы в жизни.
При всем пристрастии к кристальной философской мысли, детерминизму и логической обоснованности автор довольно рано понял, что столько, сколько помнит себя человечество, подобные средства не оказывались адекватными реальности. За многовековую историю мысли они помогли создать лишь путаницу, не давали ответов, но только приумножали вопросы. Великие концепции неизменно понимались ошибочно, идеи плодили заблуждения. Если говорить о философии, то люди поднаторели лишь в одном – в превратном ее толковании. И вот тогда Гюнтер подумал: что, если истинное знание можно передать как угодно, только не непосредственно?
Его поздние сочинения становились все сложнее. И хоть они походили на образчики богословия XIII–XVI веков, задачи, стоящие перед Гюнтером, были принципиально иными, а труды отличались нарочитой изощренностью.
Когда Сведенборг писал, что существует четыре мира: природный и духовный универсумы, а также ад и рай, – он в силу каких-то причин думал, что так есть на самом деле. Высказывая свои соображения, шведский естествоиспытатель делал, как ему казалось, шаг навстречу истине. Когда он говорил, будто ангелы бывают трех цветов: красные, лазоревые и белые, – Сведенборг считал, что дело так и обстоит. Быть может, ему являлись небесные создания всех этих разновидностей. Когда он писал, что на третий день после кончины, переходя в духовный мир, благодетельные люди становятся голубями и овцами, тогда как грешники – совами и летучими мышами, он – уж не будем сейчас обсуждать почему – в этом не сомневался.
Бонавентура утверждал, что у человека имеется три ока – мысленное, телесное и созерцательное, – поскольку находил их в себе и других. Мейстер Экхарт действительно видел разницу между божеством и богом, наглядно, а не умозрительно представляя себе «полную чистоту божественной сущности». В отличие от них, когда Гюнтер писал, что для каждого человека на земле существует дерево, в котором обитает его альтус – третий из четырех (наряду с традиционной душой, архонтом и «дном ока») структурных элементов его возвышенной субстанции, – он так не думал ни секунды.
Учение катаров, в котором бог представал как некий исполнительный ремесленник, что, в свою очередь, допускало возможность его ошибок, а также предполагало, будто он вовсе не является вершиной иерархии, было сплавом широкого спектра восточных и западных религиозных трактатов. Многие люди погибли, отстаивая эту ересь, видя свою цель лишь в одном – скорректировать тотальные заблуждения традиционного христианства. Гюнтер бы не стал отдавать жизнь за концепцию того, что боги – а у него их множество – это своего рода крестьяне, совмещающие работу возницы, пахаря и сеятеля. Он не пошел бы за это на смерть отнюдь не потому, что не был верен своему делу. Просто он не предполагал, что так оно и есть.
Мой друг создавал заведомо ложное учение, которое глупо было принимать. Он рисовал картину, полную избыточности и противоречий, в которую невозможно было верить. Его мир оказывался настолько сложным и испещренным деталями, что даже запомнить и ориентироваться в нем никто бы не смог. Что же оставалось? Читатель его поздних трудов неизменно оказывался в смятении, и первая же соблазнительная его мысль состояла в том, что все это какой-то абсурд, который исключает «правильное понимание». Но ведь если за всю историю человечества идеально отточенные идеи так и не создали представления об истине, то, быть может, неуловимая таится в ложном понимании ложного? Если истину не удавалось сформулировать непосредственно, то почему бы ей не возникнуть опосредованно, из блужданий по пугающему лабиринту абстракций, нарочитых усложнений и недомолвок Гюнтера?
Его мнимый хаос является сугубо интеллектуальной конструкцией. Поздние работы моего друга, хоть внешне и напоминали древних богословов, были попросту невозможны во времена, когда люди, подобно Бонавентуре, Экхарту или Сведенборгу, видели свою задачу в том, чтобы выразить структуру мира, как он есть. Гюнтер уже не тешил себя амбициозными надеждами. Он создавал универсум, которого не существовало и не могло существовать. Пользовался не древними книгами и не опытом экстатических Откровений, но дорогами разочарований, интеллектуальных тупиков, развилками неоднозначностей. Именно поэтому результат его труда, мне кажется, наиболее разумно называть лабиринтом, в котором на каждом шагу встречаются или мерещатся следы чудовища.
Последние годы на кафедре Гюнтер только и занимался тем, что оттачивал, доводил до некого, ведомого лишь ему совершенства свой лабиринт, в котором не было входа, но, быть может, где-то таился выход. Впрочем, где именно – не знал и сам автор. В связи с этим я уверен, что если бы мой друг не исчез, то вскоре он в очередной раз сменил бы свое имя. На этот раз, я не сомневаюсь, он стал бы называться Дедалом. Потому я вновь приступаю к чтению его текстов – в поисках то ли выхода, то ли Минотавра.
Эхнатон
«Отец, ты стар и мудр, так объясни же мне, для чего мы нужны? Послушай, от века владыка Египта – гарант благосклонности богов к стране, но думаю, даже ты не веришь в сказки о том, что правитель является воплощением Хора. Во-первых, сейчас мы с тобой вдвоем на троне. Хор погибает и беспрестанно рождается вновь, но одновременно двух Хоров быть не может никогда. Во-вторых, ты тяжело болен, и, согласись, вряд ли бог станет болеть. Нет, отец, я очень тебя люблю, но ты не божество. А я?.. Знаешь, я много думаю об этом, но пока ничего подобного в себе не нахожу.
Так для чего же мы? Для того чтобы молить всевышних, принося им жертвы в дорогих одеждах, не оскорбляющих их взор? Да, подношения наши так ценны, что их не стыдно отдавать даже божествам. Если это скот и яства, то их столько, что можно годами кормить несколько деревень. Если это драгоценности, то на них можно было бы устроить пир для всех жителей столицы.
Простым людям запрещено жертвовать и даже обращаться к всевышним, они могут делать это только через жрецов-посредников. Но, отец, представь ситуацию – у крестьянина заболела мать, и он решает пролить на алтарь кровь своего единственного теленка. Этот теленок представляет для него куда большую часть имущества, чем стадо быков для нас с тобой… Да что там, чем вся деревня с этим несчастным крестьянином, его матерью, другими жителями и их скотом… Мы не замечаем, что владеем ими, не заметим, и если они все исчезнут на алтаре.
А теленок бы вырос, заменил своего дряхлеющего отца, и с его помощью крестьянин возделывал бы поле и обеспечивал семью много лет. Но он решается отдать его жрецу. Отец, так кто же из нас жертвует по-настоящему, мы или они? Правы ли боги, если они слушают нас, а не таких, как этот крестьянин? Да и не глухи ли всевышние, ведь мы уже пять лет молим о твоем выздоровлении.
Я помню, прежде ты говорил мне, что народ наш беден и грязен. Дескать, богам не пристало внимать обращениям подобных. Но подожди, если наш гражданин не достоин слуха всевышних, то чья в том вина? Не должно ли нам быть стыдно? Не должны ли мы всеми силами это исправлять? Впрочем, мне кажется, что уже исправили: никогда прежде Египет не переживал более славные времена, чем сейчас. Не было еще такого достатка и расцвета. Ты, твой отец, твой дед, все наши предки долго к этому шли. Так неужели даже в это славное время простой гражданин не заслужил права обращаться к богам без посредников? Прости, отец, я не согласен!
Еще ты утверждал, что египтянин прост и темен, а пантеон всевышних сложен и мстителен, нужно уметь правильно говорить с ними. Это высокое искусство и трудная наука, доступная только жрецам. Обычный человек ее не освоит, запутается, не поймет. Тут я соглашусь, но подумай, правильно ли это, когда людьми управляют те, кто находится за гранью их разумения? Послушай, я не уверен, что их понимаем даже мы с тобой. Многое ли я и ты знаем о богах, кроме того, что и когда им подносить? Отец, мне страшно: люди зависят от тех, кого себе даже не представляют. Поверь, они нам чужды!
Я часто думаю об этом и должен тебе сказать: мне кажется, все гораздо проще. Если не слушать верховного жреца Маи и остальных священнослужителей, то на самом деле мы зависим лишь от двух вещей – от Нила и от Солнца. Но Нил здесь, он течет мимо наших городов, совсем рядом. Он никуда не денется. Пусть река может растекаться и мельчать, и то и другое оборачивается для нас несчастьями, но они ничто в сравнении с тем, что случится, если завтра не взойдет Солнце. Все наши поля тогда погибнут, все наши люди умрут, не станет и нас с тобой. Это же так просто – нам нужно только Солнце! Солнце – вот единственный бог, обеспечивающий нашу жизнь!
Но что на это скажут жрецы? Если их послушать, то небесное светило вовсе не имеет божественной природы. По их мнению, это лишь предмет, который богиня-мать Нут проглатывает каждый вечер, а по утрам рождает вновь. Прежде, помнишь, они утверждали, что оно вышло из лотоса посреди океана Нуна. Получается, раньше они считали, будто Солнце возникло прежде, чем сама Нут, а потом поменяли свою точку зрения? Почему?! На каком основании?! Откуда они могли это узнать?!
Некоторые жрецы, особенно в наших далеких номах, говорят, будто светило держат горы обоих горизонтов. Те, что чуть ближе к столице, считают, будто скарабей катит его по небосклону. Набирает популярность и та точка зрения, что боги вроде Ра несут его на голове, подобно дорогому украшению, или же везут на лодке… Так как же на самом деле? Отец, я убежден, они заврались! Жрецы попросту не знают, что такое Солнце!
Хотя, заметь, даже они начали чувствовать, что их представления не верны, что светило куда важнее, чем у них принято считать. Ведь если не будет Солнца, то не будет людей, а если не будет людей, то кто же тогда станет служить их бесчисленным богам? И вот, при твоем прадеде священнослужители решили, что Амон – владыка не только воздуха и бескрайнего неба, но еще и „невидимого Солнца“! Казалось бы, наконец-то небесному светилу хотя бы отчасти „дозволили“ быть божеством, но, отец, это же бред! Что значит „невидимое…“? Опять это понятно только жрецам! А как же видимое Солнце? Да и разве может меняться сфера ответственности бога по решению священников?!
Я глубоко убежден, что они обманывают нас. А ты потакаешь, вот построил едва ли не самый крупный храм Амона. Они тебе врут!»
Так говорил Аменхотеп IV своему отцу Аменхотепу III, но тот не отвечал, поскольку был тяжело болен. Вот уже четыре года, как паралич разбил владыку Египта.
Аменхотеп III очень любил своего беспокойного младшего сына, который, по логике вещей, никогда не должен был стать фараоном. Но всей своей жизнью Аменхотеп IV – будущий Эхнатон – то ли разрушал, то ли, напротив, восстанавливал эту самую логику. Его старший брат Тутмос умер от внезапной болезни, потому черед все-таки дошел до младшего. В достаточно юном возрасте он сел на трон вместе с нездоровым отцом. Впрочем, пока Аменхотеп III был жив, народ Египта даже не догадывался, что ими уже правит кто-то другой.
«Отец, скажи мне, разве жизнь не стала лучше для всех? Прежде люди не понимали и боялись всевышних. Может быть, потому и боялись, что не понимали. Для каждого, кто задумывался о них, даже для жрецов, связанная с богами мифология была слишком сложной и неоднозначной. Образы всесильных сплетались в нераспутываемый клубок. Непознаваемый, непредсказуемый конгломерат. Потому это были скверные союзники, на которых нельзя рассчитывать. „Клубок“ не удавалось даже любить, только бояться.
Я обратил внимание вот на что: если сонм богов образует таинственное множество, образы и деяния которого находятся за гранью понимания, то не имеет большого значения, сколько их в пантеоне. Их могут быть тысячи, если считать номовых божеств, могут – сотни, десятки или всего несколько. Но стоит весь этот клубок заменить на одного-единственного всевышнего, как все становится на места! Я понял это однажды утром, когда меня разбудило восходящее Солнце, когда мне явился мой бог Атон! Когда Атон проник в меня!
Атон ясен как свет, неизбежен как восход, а главное, он здесь, он в Египте, он во мне! Отец, мне пришлось все делать заново. Я снес те храмы, которые ты повелел возвести, я распорядился стереть имена и уничтожить изваяния старых богов, я приказал преследовать их культы. Все прежние священники были разогнаны. Ты знаешь, хоть они и не понимали, кому служат, но их вера оказалась истинной – мало кто из старых жрецов согласился отвергнуть Амона и служить Атону. Тех, кто мне возмущенно отказал, я отпустил с миром. Тех же, кто принял мое предложение, я приказал жестоко казнить.
Мне пришлось стереть даже имена прошлых правителей, пребывавших в заблуждении. Прости, но и нашего с тобой имени – Аменхотеп – больше не существует. Меня отныне зовут Эхнатоном – „угодным Атону“.
Я вынужден был обновить все, весь Египет, всю жизнь, происходящую под Солнцем во славу Атона. И посмотри, величие нашей династии не прервалось, страна продолжает процветать. Я возвожу новые святилища и новые города. Мое главное детище – „дом Атона“. Этот храм будет куда крупнее твоего, посвященного Амону!
Кстати, отец, столица больше не в Фивах. Я строю новую, Ахетатон – „небосвод Атона“ – город солнца! Я возвожу его там, где раньше не было ничего. Место выбрал сам бог, указав мне солнечным лучом. На каждой улице в городе будут алтари, которыми сможет свободно пользоваться человек любого происхождения! Больше нет диктата жрецов, каждому позволено общаться с Атоном, перед которым все равны! И богу Солнца теперь служат не в тенистых храмах, а под его же блистательным светом!
Знаешь, отец, в моем новом Египте будет жить новый человек. Да, должен тебе сказать, что помимо всего прочего я создаю нового египтянина! Прежняя общественная структура не могла выдержать таких реформ. Мне пришлось сменить всех придворных и вельмож, всю служивую знать. Я стер грань между городом и деревней, уничтожил расстояния…
Отец, ты – великий правитель, один из самых славных в истории страны, но даже при тебе в Египте не было того народного единства, которое достигнуто при нас с Атоном! Согласись, раньше в разных номах почитали своих богов. Жрецы постоянно спорили по поводу того, как правильно совершать культы. Все время возникали распри и обвинения. Этого больше нет и быть не может!
Еще я реформировал язык, сделав его более простым и ясным, искоренив диалекты. Дал людям новое время, заново начав летоисчисление в своем новом Египте. Страна дружна! Едина, как никогда!
А наши соседи – цари Митанни и Вавилонии – покорны и доброжелательны. Кстати, отец, ты много золота давал им за дружбу. Я считаю, что мир с нами в первую очередь в их собственных интересах, а потому плачу все меньше. Кроме того, ты можешь видеть, как много у меня сейчас расходов на обновление государства. Честно говоря, я бы в одночасье аннулировал этот установленный вами „налог“, который сильный почему-то платит слабому, но не хочу пока обострять отношения. Чужие люди, не разделяющие нашей веры, могут отреагировать необдуманно. Мой же план состоит в том, чтобы со временем распространить веру в Атона и на их земли».
Так говорил Эхнатон своему отцу Аменхотепу III. Последний уже не мог не только ответить, но даже слышать сына, ведь голос не доносился до царства мертвых, даже если говорит фараон. Многие прежние вельможи, служившие еще отцу, будучи отлученными от двора, шепотом возносили хвалу Осирису за то, что Аменхотеп-старший не видит, как по воле любимого сына исчезает его Египет.
«Отец, посмотри, как хорошо! – сказал Эхнатон, стоя у окна своего дворца и глядя на ослепительно-белый Ахетатон. – Какая красота! Сколько прекрасных одинаковых домов, напоминающих каменный блок. – Фараон руками показал параллелепипед своему невидимому собеседнику. – Пойми, они должны быть одинаковыми, потому что перед Атоном все равны! Только несколько дворцов и храмов возвышаются в столице.
Атон, взгляни на мой дворец. Это настоящее чудо! Самое большое здание из тех, что возводили люди. Все стены и колонны расписаны моими художниками. А какие изразцы?! У входа стоит мое изваяние в золоте, но даже оно сделано во славу тебе, а не мне!
Да, отец, я создал совершенно новое искусство! Старые каноны не могли соответствовать красоте и величию моего замысла. Если, с одной стороны, перед Атоном все равны и сам он един, то есть одинаков для каждого, а с другой, искусство – это взгляд с точки зрения всевышнего, значит, владыка Египта должен изображаться так же, как простолюдин: без прикрас, гипертрофии и условностей. Прежде художники ваяли всех богов с лицом текущего правителя, а членов нашей династии рисовали идеальными исполинами, возвышающимися над остальными. Мои новые творцы каждого изображают, как он есть, реалистично. В том числе и Атона – в виде кружка с лучами, солнечного диска. Откуда предки взяли, будто бог похож на человека? Что за странное заблуждение?!
К сожалению, старые зодчие и художники не смогли справиться с новым искусством. Мне пришлось разогнать их, как жрецов, вельмож и многих других. Но найти новых творцов оказалось легче легкого – я набрал их из народа. Те, кто никогда не учился этому ремеслу, кому не вдалбливали символические условности канона, способны только на то, чтобы воспроизводить жизнь непосредственно. Такой, какой ее видишь ты, Атон. Именно это мне и было нужно! Я всячески способствую любому творчеству, поскольку через живописцев и скульпторов ты разговариваешь с людьми.
Отец, признайся, можно ли было в твое время представить портрет правителя, целующего свою супругу или держащего дочерей на руках? Но посмотри, таких рисунков полно в моем новом дворце. А больше всех этот, – Эхнатон указал рукой, – на котором моя жена, прекрасная Нефертити, сидит у меня на коленях и болтает ногами.
Видишь, больше нет непреодолимой дистанции между правителем и простолюдином, как нет ее между правителем и богом. Повелитель стал человеком, и бог стал повелителем!
Атон, не так давно я провозгласил тебя действующим владыкой Египта. Всем писарям приказано рядом со словами „Солнце“ и „Атон“ указывать „жив и здоров“, как это принято при упоминании властвующего правителя. Никакой разницы между нами с тобой более нет. Как нет разницы между небом и землей. Ты видел „дом Атона“, который я построил для тебя? Это самый крупный и самый богатый из всех храмов! И весь город, мой Ахетатон, возведен по тем же планам, что и твой дом. Столица повторяет пропорции храма с точностью до подобия. Как бы я хотел никогда отсюда не уезжать!»
Так говорил Эхнатон, и его самого эти слова приводили в недоумение. Он не понимал, почему обращается то к отцу, то к Атону. Поразмыслив над содержанием разговора, фараон растерялся еще больше. Для чего всевидящему светилу описывать то, что и так простирается перед его взором? С другой стороны, зачем говорить с умершим, будто он может услышать? Однако подобные разговоры Эхнатон вел изо дня в день и ничего не мог с собой поделать. Он постоянно размышлял о своем новом положении и тех переменах, которые происходили его стараниями. Наполненный мыслями о них, фараон воспринимал себя не столько как правителя, сколько как сына, а значит, беспрестанно думал об отце. Равно как и об Атоне, которого ощущал в себе или себя – в нем. Сын, отец и бесплотное божество – эти три сущности сосуществовали как нечто единое, но одновременно и обособлялись в его сознании.
В качестве примера рассмотрим доктрину экзистенциализма. Итак, пусть объективной общей истины не существует. Тем не менее существуют частные, обладающие свойством экзистенциальности, то есть связанные с отдельным человеком, конкретным прецедентом бытия. Если субъекту что-то кажется истинным, то это характеризует исключительно субъект, и больше ничего. Такую истину нельзя делегировать, преподнести кому-то другому, в том числе и читателю философских трактатов. Точнее, в интересах каждого конкретного субъекта не опираться на чужие истины, но только на свои, экзистенциальные.
Теми или иными словами именно это сообщает широкий круг мыслителей от Кьеркегора и Ясперса до Сартра и Камю. В том случае если они ошибаются, то практического смысла в знакомстве с их трудами нет, кроме разве что расширения кругозора еще одним людским заблуждением. Но если они правы, то дела куда печальнее, ведь универсальной истиной сказанное быть не может, а какое нам дело до неделегируемых истин чужих прецедентов бытия?
Нужно все-таки отметить, что экзистенциализм, особенно в сартровском варианте – не стоит думать, будто внимание Гюнтера было сфокусировано исключительно на немецких мыслителях, – казался ему достаточно резонным, но не в этом дело. Допустим, что некий философ создал концепцию, которая деформирует категорию смысла. Какие в таком случае средства остаются у автора для того, чтобы донести до читателя зерно обнаруженной, пусть и мнимой истины, таящееся в этой концепции? Можно ли предугадать червоточину, заложенную в рациональном построении, которая разрушит его под действием внешних исторических обстоятельств, при условии того, что сами эти обстоятельства на момент создания доктрины невозможно себе даже вообразить? А может, обстоятельства ни при чем? Может, некое учение – это как раз та самая константа, которая обнажает неуклонное изменение человека как биологического вида? Вот такие вопросы занимали Гюнтера.
Еще раз повторю, его работы – предмет для отдельного и подробного разговора, но есть одна гипотеза, прекрасная настолько, что если из всего им созданного в людской памяти сохранится только она – это уже будет неплохо.
К сожалению, ее невозможно сформулировать и передать словами автора, поскольку отдельного описания Гюнтер не оставил. Нечего процитировать, не на что сослаться… Однако до нас дошли опирающиеся на нее труды, с помощью и на основании которых можно попытаться ее изложить. В силу этого я должен признаться, что существование некой гипотезы, стоящей за позднейшими работами Гюнтера, это по большому счету мои домыслы. Тем не менее, сколько бы я ни размышлял, никаких других объяснений появления этих текстов придумать мне не удалось. Кроме разве что самого печального предположения. Но даже допустить мысль о том, что итоговые труды жизни моего друга были не более чем помутнением его рассудка, я не могу.
Около десяти лет назад Гюнтер изрядно удивил всех тех, кто входил в его ближний круг, кому он в первую очередь показывал свои тексты. Из-под пера мыслителя вышел удивительно наивный, если не сказать смехотворный, космогонический трактат, значительно уступающий в обоснованности даже тем, что были написаны пять, шесть, семь, восемь столетий назад. Собственно, это сочинение и походило скорее на литературную стилизацию под произведения богословов Средних веков или эпохи Возрождения, нежели на результат философских размышлений современника. Относиться к этому тексту серьезно отказывались решительно все. Большинство от души посмеялись, тогда как отдельные злые языки сразу начали поговаривать, будто Гюнтер сошел с ума.
Когда он выдал на-гора третий подобный труд, описывающий происхождение людей от подводных камней, а также развивающий представление о том, что внутри каждого человека находятся пять птиц, отличающихся размером и повадками, всеобщее веселье сменилось настороженностью. Многие тогда отвернулись и тихо ушли из его жизни, поскольку говорить Гюнтеру о том, что его светлый и яркий разум более не существует, никто не хотел. Именно поэтому, когда через несколько лет он и сам исчез, никакого резонанса не последовало. Те, кто его еще помнил, сделали вид, будто ничего таинственного в этой истории нет, просто безумец, вероятно, решил, никого не предупреждая, уединиться в какой-то келье и продолжить творить свои абсурдные тексты.
Но прежде чем уйти, Гюнтер написал еще немало. Он вообще был чрезвычайно плодовитым мыслителем. Тогда-то я и подумал, что раз мозг не изменяет ему в смысле количества порождаемых идей, почему же все решили, будто он подведет своего обладателя в смысле качества? Моя логика тут небесспорна, однако призна?юсь, что именно по этой причине я принялся внимательно перечитывать его труды и довольно скоро понял, в каком же ужасном, несправедливом и недальновидном заблуждении пребывает большинство наших общих знакомых. Ведь этими текстами Гюнтер, быть может, начал и с успехом вел самую важную часть своей работы в жизни.
При всем пристрастии к кристальной философской мысли, детерминизму и логической обоснованности автор довольно рано понял, что столько, сколько помнит себя человечество, подобные средства не оказывались адекватными реальности. За многовековую историю мысли они помогли создать лишь путаницу, не давали ответов, но только приумножали вопросы. Великие концепции неизменно понимались ошибочно, идеи плодили заблуждения. Если говорить о философии, то люди поднаторели лишь в одном – в превратном ее толковании. И вот тогда Гюнтер подумал: что, если истинное знание можно передать как угодно, только не непосредственно?
Его поздние сочинения становились все сложнее. И хоть они походили на образчики богословия XIII–XVI веков, задачи, стоящие перед Гюнтером, были принципиально иными, а труды отличались нарочитой изощренностью.
Когда Сведенборг писал, что существует четыре мира: природный и духовный универсумы, а также ад и рай, – он в силу каких-то причин думал, что так есть на самом деле. Высказывая свои соображения, шведский естествоиспытатель делал, как ему казалось, шаг навстречу истине. Когда он говорил, будто ангелы бывают трех цветов: красные, лазоревые и белые, – Сведенборг считал, что дело так и обстоит. Быть может, ему являлись небесные создания всех этих разновидностей. Когда он писал, что на третий день после кончины, переходя в духовный мир, благодетельные люди становятся голубями и овцами, тогда как грешники – совами и летучими мышами, он – уж не будем сейчас обсуждать почему – в этом не сомневался.
Бонавентура утверждал, что у человека имеется три ока – мысленное, телесное и созерцательное, – поскольку находил их в себе и других. Мейстер Экхарт действительно видел разницу между божеством и богом, наглядно, а не умозрительно представляя себе «полную чистоту божественной сущности». В отличие от них, когда Гюнтер писал, что для каждого человека на земле существует дерево, в котором обитает его альтус – третий из четырех (наряду с традиционной душой, архонтом и «дном ока») структурных элементов его возвышенной субстанции, – он так не думал ни секунды.
Учение катаров, в котором бог представал как некий исполнительный ремесленник, что, в свою очередь, допускало возможность его ошибок, а также предполагало, будто он вовсе не является вершиной иерархии, было сплавом широкого спектра восточных и западных религиозных трактатов. Многие люди погибли, отстаивая эту ересь, видя свою цель лишь в одном – скорректировать тотальные заблуждения традиционного христианства. Гюнтер бы не стал отдавать жизнь за концепцию того, что боги – а у него их множество – это своего рода крестьяне, совмещающие работу возницы, пахаря и сеятеля. Он не пошел бы за это на смерть отнюдь не потому, что не был верен своему делу. Просто он не предполагал, что так оно и есть.
Мой друг создавал заведомо ложное учение, которое глупо было принимать. Он рисовал картину, полную избыточности и противоречий, в которую невозможно было верить. Его мир оказывался настолько сложным и испещренным деталями, что даже запомнить и ориентироваться в нем никто бы не смог. Что же оставалось? Читатель его поздних трудов неизменно оказывался в смятении, и первая же соблазнительная его мысль состояла в том, что все это какой-то абсурд, который исключает «правильное понимание». Но ведь если за всю историю человечества идеально отточенные идеи так и не создали представления об истине, то, быть может, неуловимая таится в ложном понимании ложного? Если истину не удавалось сформулировать непосредственно, то почему бы ей не возникнуть опосредованно, из блужданий по пугающему лабиринту абстракций, нарочитых усложнений и недомолвок Гюнтера?
Его мнимый хаос является сугубо интеллектуальной конструкцией. Поздние работы моего друга, хоть внешне и напоминали древних богословов, были попросту невозможны во времена, когда люди, подобно Бонавентуре, Экхарту или Сведенборгу, видели свою задачу в том, чтобы выразить структуру мира, как он есть. Гюнтер уже не тешил себя амбициозными надеждами. Он создавал универсум, которого не существовало и не могло существовать. Пользовался не древними книгами и не опытом экстатических Откровений, но дорогами разочарований, интеллектуальных тупиков, развилками неоднозначностей. Именно поэтому результат его труда, мне кажется, наиболее разумно называть лабиринтом, в котором на каждом шагу встречаются или мерещатся следы чудовища.
Последние годы на кафедре Гюнтер только и занимался тем, что оттачивал, доводил до некого, ведомого лишь ему совершенства свой лабиринт, в котором не было входа, но, быть может, где-то таился выход. Впрочем, где именно – не знал и сам автор. В связи с этим я уверен, что если бы мой друг не исчез, то вскоре он в очередной раз сменил бы свое имя. На этот раз, я не сомневаюсь, он стал бы называться Дедалом. Потому я вновь приступаю к чтению его текстов – в поисках то ли выхода, то ли Минотавра.
Эхнатон
«Отец, ты стар и мудр, так объясни же мне, для чего мы нужны? Послушай, от века владыка Египта – гарант благосклонности богов к стране, но думаю, даже ты не веришь в сказки о том, что правитель является воплощением Хора. Во-первых, сейчас мы с тобой вдвоем на троне. Хор погибает и беспрестанно рождается вновь, но одновременно двух Хоров быть не может никогда. Во-вторых, ты тяжело болен, и, согласись, вряд ли бог станет болеть. Нет, отец, я очень тебя люблю, но ты не божество. А я?.. Знаешь, я много думаю об этом, но пока ничего подобного в себе не нахожу.
Так для чего же мы? Для того чтобы молить всевышних, принося им жертвы в дорогих одеждах, не оскорбляющих их взор? Да, подношения наши так ценны, что их не стыдно отдавать даже божествам. Если это скот и яства, то их столько, что можно годами кормить несколько деревень. Если это драгоценности, то на них можно было бы устроить пир для всех жителей столицы.
Простым людям запрещено жертвовать и даже обращаться к всевышним, они могут делать это только через жрецов-посредников. Но, отец, представь ситуацию – у крестьянина заболела мать, и он решает пролить на алтарь кровь своего единственного теленка. Этот теленок представляет для него куда большую часть имущества, чем стадо быков для нас с тобой… Да что там, чем вся деревня с этим несчастным крестьянином, его матерью, другими жителями и их скотом… Мы не замечаем, что владеем ими, не заметим, и если они все исчезнут на алтаре.
А теленок бы вырос, заменил своего дряхлеющего отца, и с его помощью крестьянин возделывал бы поле и обеспечивал семью много лет. Но он решается отдать его жрецу. Отец, так кто же из нас жертвует по-настоящему, мы или они? Правы ли боги, если они слушают нас, а не таких, как этот крестьянин? Да и не глухи ли всевышние, ведь мы уже пять лет молим о твоем выздоровлении.
Я помню, прежде ты говорил мне, что народ наш беден и грязен. Дескать, богам не пристало внимать обращениям подобных. Но подожди, если наш гражданин не достоин слуха всевышних, то чья в том вина? Не должно ли нам быть стыдно? Не должны ли мы всеми силами это исправлять? Впрочем, мне кажется, что уже исправили: никогда прежде Египет не переживал более славные времена, чем сейчас. Не было еще такого достатка и расцвета. Ты, твой отец, твой дед, все наши предки долго к этому шли. Так неужели даже в это славное время простой гражданин не заслужил права обращаться к богам без посредников? Прости, отец, я не согласен!
Еще ты утверждал, что египтянин прост и темен, а пантеон всевышних сложен и мстителен, нужно уметь правильно говорить с ними. Это высокое искусство и трудная наука, доступная только жрецам. Обычный человек ее не освоит, запутается, не поймет. Тут я соглашусь, но подумай, правильно ли это, когда людьми управляют те, кто находится за гранью их разумения? Послушай, я не уверен, что их понимаем даже мы с тобой. Многое ли я и ты знаем о богах, кроме того, что и когда им подносить? Отец, мне страшно: люди зависят от тех, кого себе даже не представляют. Поверь, они нам чужды!
Я часто думаю об этом и должен тебе сказать: мне кажется, все гораздо проще. Если не слушать верховного жреца Маи и остальных священнослужителей, то на самом деле мы зависим лишь от двух вещей – от Нила и от Солнца. Но Нил здесь, он течет мимо наших городов, совсем рядом. Он никуда не денется. Пусть река может растекаться и мельчать, и то и другое оборачивается для нас несчастьями, но они ничто в сравнении с тем, что случится, если завтра не взойдет Солнце. Все наши поля тогда погибнут, все наши люди умрут, не станет и нас с тобой. Это же так просто – нам нужно только Солнце! Солнце – вот единственный бог, обеспечивающий нашу жизнь!
Но что на это скажут жрецы? Если их послушать, то небесное светило вовсе не имеет божественной природы. По их мнению, это лишь предмет, который богиня-мать Нут проглатывает каждый вечер, а по утрам рождает вновь. Прежде, помнишь, они утверждали, что оно вышло из лотоса посреди океана Нуна. Получается, раньше они считали, будто Солнце возникло прежде, чем сама Нут, а потом поменяли свою точку зрения? Почему?! На каком основании?! Откуда они могли это узнать?!
Некоторые жрецы, особенно в наших далеких номах, говорят, будто светило держат горы обоих горизонтов. Те, что чуть ближе к столице, считают, будто скарабей катит его по небосклону. Набирает популярность и та точка зрения, что боги вроде Ра несут его на голове, подобно дорогому украшению, или же везут на лодке… Так как же на самом деле? Отец, я убежден, они заврались! Жрецы попросту не знают, что такое Солнце!
Хотя, заметь, даже они начали чувствовать, что их представления не верны, что светило куда важнее, чем у них принято считать. Ведь если не будет Солнца, то не будет людей, а если не будет людей, то кто же тогда станет служить их бесчисленным богам? И вот, при твоем прадеде священнослужители решили, что Амон – владыка не только воздуха и бескрайнего неба, но еще и „невидимого Солнца“! Казалось бы, наконец-то небесному светилу хотя бы отчасти „дозволили“ быть божеством, но, отец, это же бред! Что значит „невидимое…“? Опять это понятно только жрецам! А как же видимое Солнце? Да и разве может меняться сфера ответственности бога по решению священников?!
Я глубоко убежден, что они обманывают нас. А ты потакаешь, вот построил едва ли не самый крупный храм Амона. Они тебе врут!»
Так говорил Аменхотеп IV своему отцу Аменхотепу III, но тот не отвечал, поскольку был тяжело болен. Вот уже четыре года, как паралич разбил владыку Египта.
Аменхотеп III очень любил своего беспокойного младшего сына, который, по логике вещей, никогда не должен был стать фараоном. Но всей своей жизнью Аменхотеп IV – будущий Эхнатон – то ли разрушал, то ли, напротив, восстанавливал эту самую логику. Его старший брат Тутмос умер от внезапной болезни, потому черед все-таки дошел до младшего. В достаточно юном возрасте он сел на трон вместе с нездоровым отцом. Впрочем, пока Аменхотеп III был жив, народ Египта даже не догадывался, что ими уже правит кто-то другой.
«Отец, скажи мне, разве жизнь не стала лучше для всех? Прежде люди не понимали и боялись всевышних. Может быть, потому и боялись, что не понимали. Для каждого, кто задумывался о них, даже для жрецов, связанная с богами мифология была слишком сложной и неоднозначной. Образы всесильных сплетались в нераспутываемый клубок. Непознаваемый, непредсказуемый конгломерат. Потому это были скверные союзники, на которых нельзя рассчитывать. „Клубок“ не удавалось даже любить, только бояться.
Я обратил внимание вот на что: если сонм богов образует таинственное множество, образы и деяния которого находятся за гранью понимания, то не имеет большого значения, сколько их в пантеоне. Их могут быть тысячи, если считать номовых божеств, могут – сотни, десятки или всего несколько. Но стоит весь этот клубок заменить на одного-единственного всевышнего, как все становится на места! Я понял это однажды утром, когда меня разбудило восходящее Солнце, когда мне явился мой бог Атон! Когда Атон проник в меня!
Атон ясен как свет, неизбежен как восход, а главное, он здесь, он в Египте, он во мне! Отец, мне пришлось все делать заново. Я снес те храмы, которые ты повелел возвести, я распорядился стереть имена и уничтожить изваяния старых богов, я приказал преследовать их культы. Все прежние священники были разогнаны. Ты знаешь, хоть они и не понимали, кому служат, но их вера оказалась истинной – мало кто из старых жрецов согласился отвергнуть Амона и служить Атону. Тех, кто мне возмущенно отказал, я отпустил с миром. Тех же, кто принял мое предложение, я приказал жестоко казнить.
Мне пришлось стереть даже имена прошлых правителей, пребывавших в заблуждении. Прости, но и нашего с тобой имени – Аменхотеп – больше не существует. Меня отныне зовут Эхнатоном – „угодным Атону“.
Я вынужден был обновить все, весь Египет, всю жизнь, происходящую под Солнцем во славу Атона. И посмотри, величие нашей династии не прервалось, страна продолжает процветать. Я возвожу новые святилища и новые города. Мое главное детище – „дом Атона“. Этот храм будет куда крупнее твоего, посвященного Амону!
Кстати, отец, столица больше не в Фивах. Я строю новую, Ахетатон – „небосвод Атона“ – город солнца! Я возвожу его там, где раньше не было ничего. Место выбрал сам бог, указав мне солнечным лучом. На каждой улице в городе будут алтари, которыми сможет свободно пользоваться человек любого происхождения! Больше нет диктата жрецов, каждому позволено общаться с Атоном, перед которым все равны! И богу Солнца теперь служат не в тенистых храмах, а под его же блистательным светом!
Знаешь, отец, в моем новом Египте будет жить новый человек. Да, должен тебе сказать, что помимо всего прочего я создаю нового египтянина! Прежняя общественная структура не могла выдержать таких реформ. Мне пришлось сменить всех придворных и вельмож, всю служивую знать. Я стер грань между городом и деревней, уничтожил расстояния…
Отец, ты – великий правитель, один из самых славных в истории страны, но даже при тебе в Египте не было того народного единства, которое достигнуто при нас с Атоном! Согласись, раньше в разных номах почитали своих богов. Жрецы постоянно спорили по поводу того, как правильно совершать культы. Все время возникали распри и обвинения. Этого больше нет и быть не может!
Еще я реформировал язык, сделав его более простым и ясным, искоренив диалекты. Дал людям новое время, заново начав летоисчисление в своем новом Египте. Страна дружна! Едина, как никогда!
А наши соседи – цари Митанни и Вавилонии – покорны и доброжелательны. Кстати, отец, ты много золота давал им за дружбу. Я считаю, что мир с нами в первую очередь в их собственных интересах, а потому плачу все меньше. Кроме того, ты можешь видеть, как много у меня сейчас расходов на обновление государства. Честно говоря, я бы в одночасье аннулировал этот установленный вами „налог“, который сильный почему-то платит слабому, но не хочу пока обострять отношения. Чужие люди, не разделяющие нашей веры, могут отреагировать необдуманно. Мой же план состоит в том, чтобы со временем распространить веру в Атона и на их земли».
Так говорил Эхнатон своему отцу Аменхотепу III. Последний уже не мог не только ответить, но даже слышать сына, ведь голос не доносился до царства мертвых, даже если говорит фараон. Многие прежние вельможи, служившие еще отцу, будучи отлученными от двора, шепотом возносили хвалу Осирису за то, что Аменхотеп-старший не видит, как по воле любимого сына исчезает его Египет.
«Отец, посмотри, как хорошо! – сказал Эхнатон, стоя у окна своего дворца и глядя на ослепительно-белый Ахетатон. – Какая красота! Сколько прекрасных одинаковых домов, напоминающих каменный блок. – Фараон руками показал параллелепипед своему невидимому собеседнику. – Пойми, они должны быть одинаковыми, потому что перед Атоном все равны! Только несколько дворцов и храмов возвышаются в столице.
Атон, взгляни на мой дворец. Это настоящее чудо! Самое большое здание из тех, что возводили люди. Все стены и колонны расписаны моими художниками. А какие изразцы?! У входа стоит мое изваяние в золоте, но даже оно сделано во славу тебе, а не мне!
Да, отец, я создал совершенно новое искусство! Старые каноны не могли соответствовать красоте и величию моего замысла. Если, с одной стороны, перед Атоном все равны и сам он един, то есть одинаков для каждого, а с другой, искусство – это взгляд с точки зрения всевышнего, значит, владыка Египта должен изображаться так же, как простолюдин: без прикрас, гипертрофии и условностей. Прежде художники ваяли всех богов с лицом текущего правителя, а членов нашей династии рисовали идеальными исполинами, возвышающимися над остальными. Мои новые творцы каждого изображают, как он есть, реалистично. В том числе и Атона – в виде кружка с лучами, солнечного диска. Откуда предки взяли, будто бог похож на человека? Что за странное заблуждение?!
К сожалению, старые зодчие и художники не смогли справиться с новым искусством. Мне пришлось разогнать их, как жрецов, вельмож и многих других. Но найти новых творцов оказалось легче легкого – я набрал их из народа. Те, кто никогда не учился этому ремеслу, кому не вдалбливали символические условности канона, способны только на то, чтобы воспроизводить жизнь непосредственно. Такой, какой ее видишь ты, Атон. Именно это мне и было нужно! Я всячески способствую любому творчеству, поскольку через живописцев и скульпторов ты разговариваешь с людьми.
Отец, признайся, можно ли было в твое время представить портрет правителя, целующего свою супругу или держащего дочерей на руках? Но посмотри, таких рисунков полно в моем новом дворце. А больше всех этот, – Эхнатон указал рукой, – на котором моя жена, прекрасная Нефертити, сидит у меня на коленях и болтает ногами.
Видишь, больше нет непреодолимой дистанции между правителем и простолюдином, как нет ее между правителем и богом. Повелитель стал человеком, и бог стал повелителем!
Атон, не так давно я провозгласил тебя действующим владыкой Египта. Всем писарям приказано рядом со словами „Солнце“ и „Атон“ указывать „жив и здоров“, как это принято при упоминании властвующего правителя. Никакой разницы между нами с тобой более нет. Как нет разницы между небом и землей. Ты видел „дом Атона“, который я построил для тебя? Это самый крупный и самый богатый из всех храмов! И весь город, мой Ахетатон, возведен по тем же планам, что и твой дом. Столица повторяет пропорции храма с точностью до подобия. Как бы я хотел никогда отсюда не уезжать!»
Так говорил Эхнатон, и его самого эти слова приводили в недоумение. Он не понимал, почему обращается то к отцу, то к Атону. Поразмыслив над содержанием разговора, фараон растерялся еще больше. Для чего всевидящему светилу описывать то, что и так простирается перед его взором? С другой стороны, зачем говорить с умершим, будто он может услышать? Однако подобные разговоры Эхнатон вел изо дня в день и ничего не мог с собой поделать. Он постоянно размышлял о своем новом положении и тех переменах, которые происходили его стараниями. Наполненный мыслями о них, фараон воспринимал себя не столько как правителя, сколько как сына, а значит, беспрестанно думал об отце. Равно как и об Атоне, которого ощущал в себе или себя – в нем. Сын, отец и бесплотное божество – эти три сущности сосуществовали как нечто единое, но одновременно и обособлялись в его сознании.