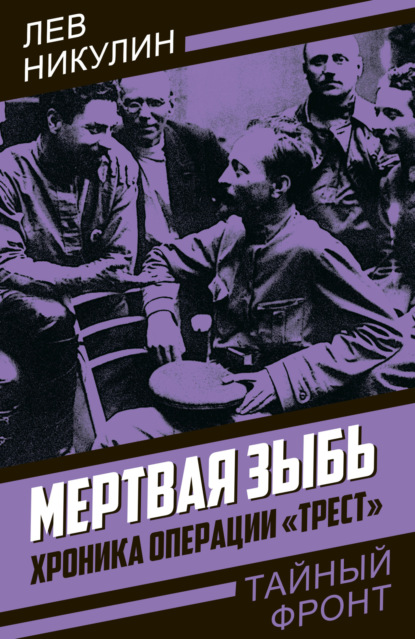По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мертвая зыбь. Хроника операции «Трест»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Якушев слегка вздрогнул и повернулся к ней. «Гимназисточка, – подумал он. – Что с ней?» Потом мягко спросил:
– Что это с вами, моя милая?
Она залепетала быстро и невнятно:
– Мы ничего не делаем… Мы ничего не сделали… Я так не могу! – Она всхлипнула.
Стауниц повернулся к Якушеву:
– Позвольте, я объясню. Зоя настаивает на террористическом акте. Она предлагает себя как исполнительницу. – Вдруг он озлился и зашипел: – Если мы будем прислушиваться к бредням каждой девчонки, которая ставит под удар всю нашу работу, нам этого не простят! Ни отечество, ни наши собратья за рубежом.
– Хорошо… Я сама. У меня оружие! Я потом застрелюсь! – кричала девушка, задыхаясь от слез.
Стауниц вскочил.
– Погодите… – Якушев встал и подошел к девушке. – Зоя, сейчас, сию минуту отдайте револьвер, если он у вас действительно есть. Я приказываю. Слышите. Отдайте!
Он говорил повелительным тоном, смотрел ей прямо в глаза и протянул руку за револьвером. В мертвой тишине девушка открыла сумочку и отдала Якушеву маленький браунинг. Якушев передал его Стауницу.
– А теперь вытрите слезы. Успокойтесь. Я прошу вас остаться, вас и вас, – он указал на Зубова.
– А меня? – сказал Ртищев.
– Хорошо, и вас. Остальные могут уходить…
Якушев говорил по-прежнему негромко, но повелительно, так, что даже Стауниц смотрел на него в изумлении.
– Вас зовут Зоя? Милая, вы мне годитесь в дочери, у меня дочь чуть не ваших лет. Вы вбили себе в голову, что ваш выстрел будет иметь значение для общего дела. Выстрел в чекиста или видного коммуниста. Вы думаете, что вы совершите подвиг! Это не подвиг. Нет! Это предательство, вот как это называется!
Девушка тряслась от рыданий.
– Хотите видеть человека, совершающего истинный подвиг? – Якушев показал на Зубова. – Он красный командир, каждую минуту стоит на пороге смерти и ведет тайную работу. Он делает именно то, о чем пишут наши собратья из Берлина. И вы его хотите предать!
– Нет! Нет!
– Вы его предадите, вы погубите всю «семерку», потому что ваш выстрел, ничтожная хлопушка, насторожит Чека. И они доберутся до нас и уничтожат всю группу. Кто вас подучил, кто вас толкает на этот бессмысленный и, к счастью, несостоявшийся акт? Отвечайте! Кто?
– Игорь…
– Этот хлыщ с намазанными губами, сидевший рядом? Стауниц! Вы уверены в нем?
– Он был со мной в Ивановском лагере. Как анархист.
– И это все? И вы взяли его в «семерку»?
– Но он нужен. Связь с молодежью…
– Я вижу. Подстрекает девочку, а сам в кусты. Нет, господа… Я вижу, что у вас неблагополучно. Мы потребуем от вас, от всех групп строжайшей дисциплины. Абсолютное подчинение Политическому совету, абсолютное…
– Верно! – вдруг заговорил Зубов. – Зачем нам этот шкет несчастный, Игорь? Другое дело Дядя… Дядя Вася.
– Это кто Дядя Вася?
– Бородатый. В поддевке. Или Ротмистр… или, как его… Кузен.
– Это в черном пальто? Он из жандармов?
– Отдельного корпуса жандармов. Я его привлек, – вдруг заговорил Ртищев. – Работает по коннозаводству. Железный характер… Я надеюсь на него, Александр Александрович!
– Меня зовут Федоров. А вы для меня Любский. Прошу помнить. А теперь, Зоя, вытрите слезы. Идите домой. И забудьте все, что здесь было. Вы меня понимаете?
– Понимаю.
– Мы еще поговорим с вами, Зоя…
Когда она ушла, Якушев переменил тон:
– Господа, вы понимаете, что я должен был держать себя так при этой девочке. Мы потом подумаем, как с ней быть. Что касается этого анархиста… Если Стауниц ручается… (Стауниц молчал.) Теперь я могу вам сказать под строжайшим секретом: мы принимаем меры, чтобы установить непосредственную связь с Высшим монархическим советом. В ближайшее время наш эмиссар выедет в Ревель.
– Прекрасно, – сказал Ртищев, – я бы предложил себя, но мне надо в Петроград… И вам бы хорошо туда, Александр Александрович… У меня, собственно, mon cher, там дело несложное. Добыть, что закопано в «земельном банке» на даче, в Сиверской. – Он взглянул на часы. – Я бы покинул вас…
– Я вас не задерживаю.
Ртищев ушел. Теперь их было трое.
– Вы что, старые знакомые? – спросил Зубов о Ртищеве.
– По Петрограду. Он богатейший человек. Землевладелец черниговский. Камергер, вероятно, кое-что сохранил… в «земельном банке».
– Вот черт! – с завистью сказал Стауниц. – Что бы ему отвалить нам на дело. До чего мы стеснены в средствах!
– Вот и я думаю, – заговорил Зубов. – Надоело мне до чертовой матери все это!
– Что именно?
– Служба! Кругом нэп, люди богатеют… А я кровь проливал, пуля во мне сидит со времен Кронштадта. Отца на Тамбовщине красные расстреляли, а я, за них дрался. Встретился у одной бабенки с Эдуардом Оттовичем, спасибо, он мне открыл глаза. Все-таки я пробую…
– Что пробуете?..
– Он, – показал на Стауница, – велит мне прощупывать курсантов. Только вы знаете, чем это пахнет? Пахнет Лубянкой и пулей. Казенная ей цена девять копеек, а жизни моей и того меньше – грош по нашим временам.
– Надо умно и тонко, – сказал Стауниц.
Якушев молча смотрел на Зубова. Статный парень. Таких в гвардию брали. Глаза красивые, голубые, длинные ресницы, но сам в глаза не смотрит. Наверно, из кулаков. Продукт столыпинских хуторов. И как он попал в Красную Армию? Видимо, по мобилизации. Скрипнула дверь. Вошел Подушкин с фонарем «летучая мышь». Выжидательно посмотрел и вздохнул.
– Ну, давайте расходиться, – сказал Якушев.
Он был доволен сегодняшним днем: получил представление о «семерке» Стауница. «Надо все-таки укрепить Политический совет «Треста», – мелькнула мысль. – А то мне будет трудно». Уходили по одному. Миновав Каменный мост, на Ленивке Якушев вспомнил о Зое: «Глупая девчонка. Что бы такое придумать? Как бы ее вытащить из этого болота? И в самом деле, недаром же это сборище на Болоте! Действительно болото».
– Что это с вами, моя милая?
Она залепетала быстро и невнятно:
– Мы ничего не делаем… Мы ничего не сделали… Я так не могу! – Она всхлипнула.
Стауниц повернулся к Якушеву:
– Позвольте, я объясню. Зоя настаивает на террористическом акте. Она предлагает себя как исполнительницу. – Вдруг он озлился и зашипел: – Если мы будем прислушиваться к бредням каждой девчонки, которая ставит под удар всю нашу работу, нам этого не простят! Ни отечество, ни наши собратья за рубежом.
– Хорошо… Я сама. У меня оружие! Я потом застрелюсь! – кричала девушка, задыхаясь от слез.
Стауниц вскочил.
– Погодите… – Якушев встал и подошел к девушке. – Зоя, сейчас, сию минуту отдайте револьвер, если он у вас действительно есть. Я приказываю. Слышите. Отдайте!
Он говорил повелительным тоном, смотрел ей прямо в глаза и протянул руку за револьвером. В мертвой тишине девушка открыла сумочку и отдала Якушеву маленький браунинг. Якушев передал его Стауницу.
– А теперь вытрите слезы. Успокойтесь. Я прошу вас остаться, вас и вас, – он указал на Зубова.
– А меня? – сказал Ртищев.
– Хорошо, и вас. Остальные могут уходить…
Якушев говорил по-прежнему негромко, но повелительно, так, что даже Стауниц смотрел на него в изумлении.
– Вас зовут Зоя? Милая, вы мне годитесь в дочери, у меня дочь чуть не ваших лет. Вы вбили себе в голову, что ваш выстрел будет иметь значение для общего дела. Выстрел в чекиста или видного коммуниста. Вы думаете, что вы совершите подвиг! Это не подвиг. Нет! Это предательство, вот как это называется!
Девушка тряслась от рыданий.
– Хотите видеть человека, совершающего истинный подвиг? – Якушев показал на Зубова. – Он красный командир, каждую минуту стоит на пороге смерти и ведет тайную работу. Он делает именно то, о чем пишут наши собратья из Берлина. И вы его хотите предать!
– Нет! Нет!
– Вы его предадите, вы погубите всю «семерку», потому что ваш выстрел, ничтожная хлопушка, насторожит Чека. И они доберутся до нас и уничтожат всю группу. Кто вас подучил, кто вас толкает на этот бессмысленный и, к счастью, несостоявшийся акт? Отвечайте! Кто?
– Игорь…
– Этот хлыщ с намазанными губами, сидевший рядом? Стауниц! Вы уверены в нем?
– Он был со мной в Ивановском лагере. Как анархист.
– И это все? И вы взяли его в «семерку»?
– Но он нужен. Связь с молодежью…
– Я вижу. Подстрекает девочку, а сам в кусты. Нет, господа… Я вижу, что у вас неблагополучно. Мы потребуем от вас, от всех групп строжайшей дисциплины. Абсолютное подчинение Политическому совету, абсолютное…
– Верно! – вдруг заговорил Зубов. – Зачем нам этот шкет несчастный, Игорь? Другое дело Дядя… Дядя Вася.
– Это кто Дядя Вася?
– Бородатый. В поддевке. Или Ротмистр… или, как его… Кузен.
– Это в черном пальто? Он из жандармов?
– Отдельного корпуса жандармов. Я его привлек, – вдруг заговорил Ртищев. – Работает по коннозаводству. Железный характер… Я надеюсь на него, Александр Александрович!
– Меня зовут Федоров. А вы для меня Любский. Прошу помнить. А теперь, Зоя, вытрите слезы. Идите домой. И забудьте все, что здесь было. Вы меня понимаете?
– Понимаю.
– Мы еще поговорим с вами, Зоя…
Когда она ушла, Якушев переменил тон:
– Господа, вы понимаете, что я должен был держать себя так при этой девочке. Мы потом подумаем, как с ней быть. Что касается этого анархиста… Если Стауниц ручается… (Стауниц молчал.) Теперь я могу вам сказать под строжайшим секретом: мы принимаем меры, чтобы установить непосредственную связь с Высшим монархическим советом. В ближайшее время наш эмиссар выедет в Ревель.
– Прекрасно, – сказал Ртищев, – я бы предложил себя, но мне надо в Петроград… И вам бы хорошо туда, Александр Александрович… У меня, собственно, mon cher, там дело несложное. Добыть, что закопано в «земельном банке» на даче, в Сиверской. – Он взглянул на часы. – Я бы покинул вас…
– Я вас не задерживаю.
Ртищев ушел. Теперь их было трое.
– Вы что, старые знакомые? – спросил Зубов о Ртищеве.
– По Петрограду. Он богатейший человек. Землевладелец черниговский. Камергер, вероятно, кое-что сохранил… в «земельном банке».
– Вот черт! – с завистью сказал Стауниц. – Что бы ему отвалить нам на дело. До чего мы стеснены в средствах!
– Вот и я думаю, – заговорил Зубов. – Надоело мне до чертовой матери все это!
– Что именно?
– Служба! Кругом нэп, люди богатеют… А я кровь проливал, пуля во мне сидит со времен Кронштадта. Отца на Тамбовщине красные расстреляли, а я, за них дрался. Встретился у одной бабенки с Эдуардом Оттовичем, спасибо, он мне открыл глаза. Все-таки я пробую…
– Что пробуете?..
– Он, – показал на Стауница, – велит мне прощупывать курсантов. Только вы знаете, чем это пахнет? Пахнет Лубянкой и пулей. Казенная ей цена девять копеек, а жизни моей и того меньше – грош по нашим временам.
– Надо умно и тонко, – сказал Стауниц.
Якушев молча смотрел на Зубова. Статный парень. Таких в гвардию брали. Глаза красивые, голубые, длинные ресницы, но сам в глаза не смотрит. Наверно, из кулаков. Продукт столыпинских хуторов. И как он попал в Красную Армию? Видимо, по мобилизации. Скрипнула дверь. Вошел Подушкин с фонарем «летучая мышь». Выжидательно посмотрел и вздохнул.
– Ну, давайте расходиться, – сказал Якушев.
Он был доволен сегодняшним днем: получил представление о «семерке» Стауница. «Надо все-таки укрепить Политический совет «Треста», – мелькнула мысль. – А то мне будет трудно». Уходили по одному. Миновав Каменный мост, на Ленивке Якушев вспомнил о Зое: «Глупая девчонка. Что бы такое придумать? Как бы ее вытащить из этого болота? И в самом деле, недаром же это сборище на Болоте! Действительно болото».