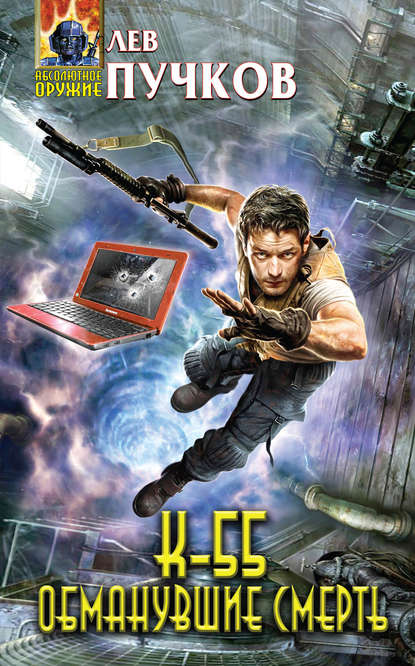По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
К-55. Обманувшие смерть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На дым все без исключения реагировали тревожно.
Из-за тележки с оборудованием группа двигалась неспешно, и их регулярно обгоняли люди, поспешавшие к центру. И все, кто обгонял, и солдаты, и местные жители, озабоченно спрашивали, где горит, насколько серьёзен пожар и почему до сих пор не потушили.
Даже пленные из-под мешков возмущались:
– Вы, вообще, контролируете обстановку? Почему до сих пор горит?!
Наверно, тут полно бывших пожарных… Или, может быть, пожар здесь – большая проблема для всего населения…
Несмотря на расслабленность, Вадима посетили разом две умные, но противоречивые мысли.
Первая: возмездие пока что придётся отложить.
Надо сначала разобраться в обстановке, понять, как тут всё устроено, на что можно надеяться и рассчитывать.
Можно ли на что-то рассчитывать, если Вадим попробует где-нибудь в укромном уголке напасть на конвой и эта попытка сорвётся?
(Положа руку на сердце, Вадим чувствовал, что попытка непременно сорвётся – нет у него опыта и особых личных качеств, потребных для такого деяния.)
Даже если Вадиму дико повезёт и получится тихо и незаметно уложить всех шестерых… И что дальше? Обращаться ко всем подряд встречным и наводить справки в формате «…Я тут это… того… техник с Восьмого Уровня. Не подскажете, как вернуться в Прошлое? Мне недалеко, всего-то на полвека назад…»
Бред, как сказал бы ассистент № 2.
Между тем Панин хочет как можно быстрее доставить его в некую «лабораторию». Если немного порассуждать в этом направлении, можно предположить, что именно в этой лаборатории стоит аппарат, который выпилил Вадима из родной реальности и переместил сюда.
Ну и, как следствие, есть надежда, что из той же лаборатории удастся вернуться обратно в своё уютное прошлое. Маленькая такая, бледненькая, но есть.
Надежда, какая бы призрачная и зыбкая она ни была, это всегда хорошо. Это внушает оптимизм и наполняет жизнь смыслом.
Вторая мысль, увы, в корне противоречила первой и была насквозь выкрашена в серое, под стать местному видеоряду.
Я никогда не вернусь обратно. Я до конца дней своих обречён прозябать в этом жутком подземелье. Господи, как хорошо, что у меня нет клаустрофобии…
* * *
У одного из боковых ответвлений группа остановилась, чтобы скорректировать ситуацию.
Это был квадратный закуток три на три, с санитарными каталками-кушетками, обитыми дерматином, и задраенной дверью, на которой красовалась табличка с надписью «ЯСЛИ».
Из-за двери доносились истошные женские вопли на фоне возбуждённого суетливого бормотания, и стук, гаденький такой стукоток, как если бы кто-то быстро-быстро подпрыгивал на такой вот санитарной каталке, что стоят у двери.
Ещё были слышны приглушённые удары, словно кто-то вдалеке бил чем-то мягким по вибрирующей металлической поверхности.
– И чего встали? – спросил Мусаев.
– Надо вмешаться, – Панин кивнул на дверь.
– Войска в осаждённом городе, – хмыкнул Мусаев, проявляя недюжинную осведомлённость по части истории погибшего мира. – Три дня и три ночи…
– Теперь это наш сектор, – напомнил Панин. – И мы в ответе за всё, что здесь творится. Давай, Ильдар, покажи, кто в доме хозяин.
Досадливо нахмурившись, Мусаев подошёл к двери и забарабанил по ней кулаком.
Бормотание и гаденький стукоток стихли, а истошные вопли слегка потеряли интенсивность.
– Открывай! – по-хозяйски рявкнул Мусаев.
В ответ из-за двери прозвучал недвусмысленный посыл в известное место.
– Открывай, а то взорвём! Считаю до десяти – и взрываю! – осерчал Мусаев. – Восемь! Девять! Десять!!!
Дверь распахнулась.
– А чего сразу с восьми? – В голосе вопрошавшего звучали искреннее недоумение и обида. – Если «до десяти», то надо с «одного» начинать!
В «яслях» можно было наблюдать древнюю как мир картинку, неизбежно сопутствующую великому множеству отзвучавших военных конфликтов: трое захватчиков, суетливо заправляющих штаны, и девица с задранным подолом на кушетке с колёсиками.
Тут, однако, сугубо военная ситуация заметно скособочилась в сторону изврата: девица была буквально на сносях.
Её огромный белый живот вздымался над кушеткой и жил своей отдельной жизнью: он дышал, пульсировал и содрогался, словно бы негодуя по факту учинённого с его хозяйкой безобразия и собираясь выйти вон из организма.
– Ого… Да у нас тут роды намечаются! – воскликнул Панин. – А ну, отоприте акушерку!
В противоположной от входа стене была дверь с застеклённым смотровым окном. Дверь вибрировала от ударов, а в окно было видно перекошенное от гнева лицо немолодой женщины.
Выпущенная на волю женщина первым делом выписала по увесистой оплеухе тем, кто подвернулся под руку – Мусаеву и Панину (которые к содеянному не имели никакого отношения), и вразвалку устремилась к корчившейся на кушетке девице.
Сюрприз! Это была отнюдь не акушерка, а ещё одна роженица, только в возрасте, хорошо за пятьдесят.
Панин заглянул в соседнее помещение и озадаченно спросил:
– А где ваши врачи?
– Видимо, убежали раненым помогать, – высказал предположение Мусаев, потирая ушибленную щеку. – И за что, спрашивается?
Между тем у девицы на кушетке стали отходить воды.
– Чего встали, болваны?! – зло крикнула дама в возрасте. – Катите её в операционную, будем роды принимать!
– Дельная мысль, – одобрил Мусаев. – Итак, орлы-осеменители, вы все назначены в команду по приёму родов.
– Но мы… – попробовал было возразить один из осеменителей.
– Никаких «но»! – рявкнул Мусаев. – Если с дитём что-то случится – все трое пойдёте на рудники.
– Пожизненно, – добавил Панин. – Я лично проконтролирую.
– Всё, вопросов нет: за дело, – завершил разговор Мусаев. – Шевелись, пехота!