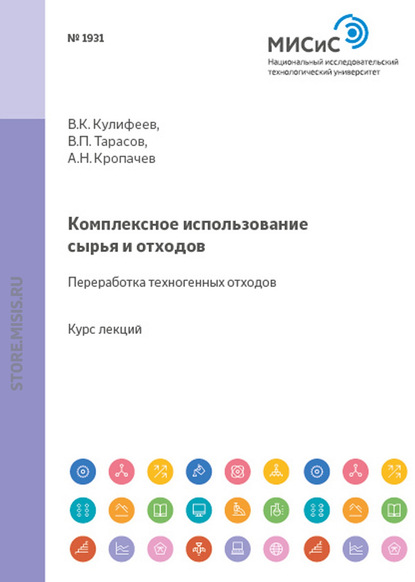По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Время политики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В каких-то главных словах моего раннего, почти еще утробного детства – в словах «мама», «папа», «Миша», «бабушка», «война», «Сталин», «ангина» – этого звука не было. А в других, тоже не самых пустяковых – «радио», «брат», «ура», «драка», «кровать», «бритвенныйприбор», «врагинарода», «папанаработе» – он был.
Я этого, разумеется, помнить не могу, но мама мне рассказывала, что в отличие от многих детей многих поколений, для кого именно этот звук считается чуть ли не самым трудным, а потому и позже других побежденным и усвоенным, я начал его произносить практически сразу.
Я произносил его не просто четко, а как-то особенно форсированно, с явным удовольствием, со смакованием, с переливами и перекатами, граничащими с рычанием.
Слово «дурак», благодаря старшему брату и его многочисленным приятелям, было одним из наиболее оперативных в моем небогатом словарном запасе. И вполне естественно, что в довольно замкнутом речевом контексте это слово какое-то время существовало для меня лишь в форме единственного числа мужского рода.
Когда мне было года три с чем-то, я залег в больницу со «скар-р-рлатиной». Однажды, рассказывала мама, в палату пришла медсестра, чтобы сделать мне укол пенициллина. Увидев в ее руке шприц, я заверещал на манер дурно воспитанного попугая: «Тетя вр-р-рач – дур-р-р-рак!»
Эта буква и этот звук в годы моего раннего детства, то есть в начале пятидесятых годов, играли особую и очень, прямо скажем, дурную, чтобы не сказать зловещую, роль. Потому что считалось, что некоторые особенности произношения этого звука прямо и непосредственно указывали на этническое происхождение говорившего.
Где-то я читал, что во время погромов начала двадцатого века черносотенцы останавливали на улице мальчишку, чья наружность казалась им подозрительной, и требовали, чтобы он произнес слово «кукуруза». От того или иного произношения этого невинного мирного слова могла зависеть человеческая судьба.
Ни буквы, ни звука «р» не было ни в моем имени, ни в именах моих родителей и моего брата. Всего лишь первая буква фамилии. Но и этого было достаточно, чтобы мой дворовый враг Витька Леонов, увидев меня, раскатисто орал: «Посмотгите! Губинштейн пгишел!»
Я – в отличие от многих сверстников, а также и некоторых взрослых – никогда не картавил.
Но концепт в нашу информационную эпоху – и нам ли, концептуалистам, этого не знать – во многих случаях существенно сильнее и означаемого, и означающего, и формы, и содержания. Он сильнее любого, самого очевидного факта. А рукотворный образ реальности сильнее и нагляднее самой реальности.
Я никогда не картавил. Зато картавил долговязый и вечно сопливый альбинос Женька из соседнего подъезда. Но этого никто не замечал. Потому что он был признанный силач и, главное, потому, что его фамилия была не Рубинштейн, а Никушкин.
От слова «буква» образовано слово «буквальный». То есть нечто, не допускающее вольных толкований и переносных значений.
Есть также устойчивое выражение «дух и буква закона».
Буква – это то, что твердо и неколебимо занимает свое законное место в алфавите. А вот трудно уловимый дух ее веет где хочет, время от времени чуть задевая нас своими легкими невидимыми крылами.
Метафизика чернил
Кляксы были повсюду. На указательном пальце правой руки. На серых форменных штанах. На парте. На тетрадных листках – за это снижались оценки.
Кляксами были густо покрыты столы в почтовых отделениях, в читальных залах, в кабинете врача и начальника ЖЭКа.
Какая же жизнь без клякс. Без клякс – никуда. Клякса – хоть и бесформенный, хоть и бесконечно досадный, но, безусловно, надежный и убедительный символ Великой Чернильной эпохи.
Она ушла, эта эпоха. Причем давно. Она дотянулась лишь до художников, рисующих тушью. Но тушь – хоть и близкая родственница чернил, но все же не чернила. Да и далеко не все – художники.
Эпоха ушла, но оставила след в виде роковых нестираемых клякс. Клякс нашей неугомонной памяти.
Эта память иногда во всей своей красе пробуждается в самых неожиданных обстоятельствах.
Однажды я получил удивительный подарок. Один мой приятель, примерно мой сверстник, на одном из европейских блошиных рынков обнаружил невероятную для наших дней вещь. Обнаружил, купил и подарил ее мне.
Это была круглая деревянная ручка со вставленным в нее перышком. Ручка, выкрашенная в красный цвет. Она имела совершенно новый вид – как будто только что со склада, как будто бы не прошли несколько эпох. Ручка из нашего школьного советского детства.
Я взял ее в руки. Навсегда, казалось бы, ушедшая в небытие мускульная память немедленно встрепенулась, а за ней проснулась и вся неизбывная школьная тоска. И перышки-«солдатики», коварно и мстительно царапавшие бумагу, и безуспешно подавляемая зевота в ожидании спасительного звонка, и все остальное, включая густой снотворный снег за школьным окном.
И чернильницы, конечно. Чернильницы-«непроливайки», которые еще как проливались, причем прямо на брюки.
И сами чернила!
Странно, что мне не приходило в голову раньше, что такая, казалось бы, чисто служебная субстанция, как чернила, – точнее, их цвет, – была наделена мощным семиотическим зарядом. Что они служили казавшимся незыблемым символом социального неравенства. Символом непоколебимости установленных раз и навсегда иерархий. Символом власти или подчиненности.
Учащийся писал фиолетовыми чернилами. Только фиолетовыми. Любые отклонения от этой фатальной фиолетовости самым решительным образом пресекались.
Учитель писал красными чернилами. Красные чернила – это власть. Причем власть, объединявшая в себе (к чему нам, в общем-то, не привыкать) все ее ветви.
Обладатель красных чернил – вершитель судеб, законодатель истины и, разумеется, прокурор и судья. Власть, абсолютная и непререкаемая, осуществлялась посредством красных чернил.
Впрочем, красный цвет власти был присущ не только чернилам и не только школьным учителям. Флаги, лозунги и транспаранты тоже были исключительно красными. Прилагательное «красный» присутствовало в названиях улиц, городов, заводов, колхозов, клубов и санаториев.
Одна из подружек моей юности на все майские празднества уезжала за город, причем, как она уверяла, совсем не из идейных соображений. Точнее – не только из них. Она уверяла, что переизбыток красного цвета в оформлении городского пространства вызывал у нее сильную воспаленность носоглотки и что в эти дни у нее ужасно чесались и слезились глаза. Мы называли это явление «майским конъюнктивитом».
Очевидная гипотеза о том, что это вполне могла быть обычная сезонная аллергия, почему-то даже не обсуждалась.
Впрочем, в школьные, и особенно в ранние школьные, годы репрессивная природа кровавых учительских чернил давалась нам в более непосредственных ощущениях, чем какие-то флаги и знамена, которые нам, детям, скорее нравились, как нравилось все то, что имело отношение к празднику, а соответственно, и к праздности.
Этот «красно-фиолетовый» миропорядок казался нам естественным, и нас не посещала до поры до времени идея чернильного бунта.
Впрочем, не совсем так. Яркий, хотя и не слишком успешный образец такого спонтанного бунта однажды имел место.
Мой дружок Володя Шухов, большой выдумщик и шутник, однажды, в классе примерно шестом, проделал такой как бы эксперимент, радикальной символической революционности которого сам он даже и не подозревал. Он просто решил пошутить. Вот он и пошутил. Пошутил он так.
Очередное домашнее сочинение он написал именно что красными чернилами, пузырек которых специально для этого дела он купил в писчебумажном магазине.
На следующий день он сдал это сочинение учительнице русского языка и литературы Ирине Павловне.
А на следующий день он получил это сочинение обратно с крупной нарядной двойкой, выполненной, соответственно, фиолетовыми чернилами и с короткой – теми же чернилами – надписью «Больше так не шути».
Больше он так не шутил. Но мне эта шутка запомнилась как неосознанное, но очень яркое проявление стихийного нонконформизма, как решительно и успешно навязанный учителю опыт карнавальной смены социальных ролей.
Цвет вообще и цвет чернил в частности – вещь очень важная и даже, можно сказать, сущностная, хотя и не всегда объяснимая.
Не так давно я наткнулся на большую связку своих записных книжек и блокнотов времен студенческой юности. Я стал их бегло просматривать. Но в процессе пролистывания поймал себя на том, что мое внимание фиксируется не столько на содержании записей, сколько на постоянно меняющемся цвете чернил.
Я очень хорошо помню свою тогдашнюю авторучку, подаренную мне на восемнадцатилетие и довольно долго прослужившую.
Наверняка были какие-то важные внутренние причины, по которым я заправлял эту ручку то черными, то синими, то зелеными чернилами. Какие-то неуловимые изменения в моем интеллектуальном или эстетическом состоянии они, конечно, отражали. Но какие именно – сказать трудно. А вот почему в этой моей ручке, а также и во всех последующих никогда не было ни красных, ни фиолетовых чернил, сказать легко.
Глаголы настоящего времени
Совершенно сознательно опустим все околоакадемические упражнения на тему «что такое либерализм» и что, в сущности, означает это слово, внятный смысл которого доступен немногим, включая тех, кто сам себя считает либералом.
В данном случае интереснее те, кто это слово и все производные от него употребляют с исключительно негативными коннотациями.
Да, такие слова, как «либерализм», «либеральный», особенно в тех случаях, когда эти слова употребляются в негативных значениях, не слишком-то внятны с точки зрения их прямых словарных значений. Особенно в таких словосочетаниях, как «либеральный террор» или, пуще того, «либеральный фашизм».
Кстати, с употреблением слова «фашизм» в последние годы произошли и вовсе удивительные – весьма причудливые и практически необратимые – изменения. Оно употребляется всего лишь как усиленный синоним слова «плохой». Не удивлюсь, что если так дело пойдет и дальше, то в бытовом речевом обиходе вполне могут возникнуть «фашистский борщ», «фашистская погода» и «что-то у меня сегодня какое-то фашистское настроение». А может быть, уже появились, почему бы и нет.