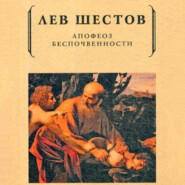По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шекспир и его критик Брандес
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Улиткою в свой пансион; затем
Любовник он, вздыхающий, как печка,
Тоскливою балладой в честь бровей
Возлюбленной своей, затем он воин,
Обросший бородой, как леопард,
Наполненный ругательствами, честью
Ревниво дорожащий, быстро в спор
Вступающий и за парами славы
Готовый взлезть хоть в самое жерло
Орудия; затем – судья с почтенным
Животиком, в котором каплуна
Отличного он спрятал, с строгим взором,
С остриженной красиво бородою,
Исполненный мудрейших изречений
И аксиом новейших – роль свою
Играет он. В шестом из этих действий
Является он тощим паяцем
С очками на носу и с сумкой сбоку.
Штаны его, что юношей еще
Себе он сшил, отлично сохранились,
Но широки безмерно для его
Иссохших ног, а мужественный голос,
Сменившийся ребячливым дискантом,
Свист издает пронзительно фальшивый;
Последний акт, кончающий собой
Столь полную и сложную историю,
Есть новое младенчество, – пора
Беззубая, безглазая, без вкуса,
Без памяти малейшей, без всего.
Несомненно, что эта речь целиком могла бы быть приписана Гамлету, многие рассуждения которого очень ее напоминают. Несомненно и то, что «мыслитель»-Жак проявился в этом ?berblick'e вполне, если раньше приведенные его рассуждения еще недостаточно обрисовали его с этой стороны. По одной этой речи можно разгадать Жака. Она прежде всего поражает вас. В столь немногих словах изображена вся длинная жизнь человека – от младенчества до глубокой старости. И все так ясно, просто и определенно. Но вдумайтесь чуточку в нее, и вас поразит обратное: она не только не говорит много – она не говорит ничего. Жак хотел изобразить жизнь и для этого поступил с ней, как поступает ученый, когда ему нужно изучить и описать какое-нибудь насекомое. Он прикалывает его булавкой и, выждав, чтоб оно перестало трепетать и бросаться, рассматривает его и потом рассказывает нам подробно о его строении. Но мертвое насекомое – интересно. Наколотая же на булавку мертвая жизнь – это никому не нужная нелепость. Сперва человек блеющий ребенок, потом – школьник, потом вздыхающий, как печка, любовник, обросший, как леопард, воин, судья с каплуном в животике, тощий паяц с ребячьим дискантом и, наконец, – пора младенчества. Все это – правда, как правда, что у бабочки есть крылья, туловище, глаза и т. п., но уже описание бабочки в книге натуралиста заключает в себе неправду, ибо рассказывает о ней лишь очень немногое. В рассказе Жака сохранились лишь верстовые столбы человеческой жизни, общие ее очертания – а претендует он на объяснение всей жизни. Он выжал из нее все соки, отнял у нее все краски, лишил ее всех ароматов, – и потом судит о ней, полагая, что это самый правильный способ суждения. И Брандес называет его – ?berblick – великим. Все вокруг Жака опровергает каждое его слово. Кругом жизнь кипит, бьет ключом, полным, сверкающим, радостным. Все действующие лица сошлись словно на праздник любви и веселья. Но к этому Жак нечувствителен: он – мыслитель. Эта специфическая способность не чувствовать в живом жизни, приравнивать одушевленное к мертвому – есть основная черта мыслителя. Чтобы стать объективным ученым, чтобы уметь все отмечать точным, определенным, ясным языком – нужно прежде всего утратить инстинкт жизни, представлять себе все и всех замершими, недвижимыми. Это условие существования мыслителя как типа. Жизнь мешает ровному потоку его мыслей, неожиданным образом врываясь в его душу и разрушая законченные построения его. Нужно избавиться от этого непрошеного буйного гостя, нужно утратить чувство жизни – и тогда лишь можно спокойно мыслить без опасения, что из всего этого процесса ничего не выйдет. Мыслитель принужден держаться поверхности явлений, всех без исключения – будут ли то явления мертвой, неорганической природы или живого, органического существования. Он ищет логической связи, он ищет нити, ему нужны только очертания; он умеет орудовать только понятиями. И поэтому мыслитель бессознательно приучается убивать все живое. Рассказать о розе – не значит ли отнять у нее все ее краски и ароматы? Рассказать о любви Розалинды – не значит ли наколоть бабочку на булавку? Розу и бабочку нужно видеть в яркий весенний день, когда одна цветет и благоухает, а другая свободно купается в лучах солнца. Их можно нарисовать – это дело художника. Но мыслитель может только убить их. И это – нужно. Нужно изучить засохшую розу и мертвую бабочку. Нельзя лишь выдавать их за живых. Мыслитель же, прикасаясь к жизни, не умеет отделаться от инстинктивного стремления к упрощению и получаются картины вроде той, которую нарисовал Жак. Они сперва поражают своей якобы бесконечной перспективой, и многие другие, вместе с Брандесом готовы удивляться им и называть их великими. В сущности – это бессознательное фокусничество опытного ума, дающее фикции и миражи взамен обещанных картин жизни.
Но, повторяем, все это у Жаков, у «мыслителей по природе» происходит бессознательно, в силу усвоенной привычки «мыслить», т. е. обращаться к явлениям одною стороной своего существа. Умысла дурного у них, конечно, нет. Но тем печальнее, тем хуже для Жаков. Эта привычка дорого им обходится. Она принижает в них все стороны душевной деятельности – для одной. Научаясь глядеть далеко, они теряют способность всматриваться вглубь. Их жизненный пульс бьется слабее. Многое перестает говорить их сердцу, что прежде так ценилось ими. Они уже не понимают людей с их радостями и скорбями, с их стремлениями, надеждами, разочарованиями. «Мир – есть театр».
Хорошо, если им достанется в удел чисто научная деятельность. Среди колб, реторт, глобусов, машин – они в своем мире. Там – чем меньше спрашиваешь жизнь, чем больше бежишь ее – тем лучше. Там они будут на своем месте.
Но если судьба властным голосом потребует их к жизни? Ответом на этот вопрос и служит «Гамлет».
VI
Мы ознакомились с Жаком, которого назвали Гамлетом до трагедии. Мы знаем его блестящую речь «мир – театр», которая своей тонкостью и остроумием не уступит рассуждениям датского принца об Александре Македонском. Гамлет до трагедии нам более или менее ясен. Он милый, умный, начитанный, кроткий, экспансивный человек. Королева говорила про него:
Гамлет безумствует, но не надолго.
Припадок бешеный им овладел.
Мгновение – и он, как голубица,
Родив на свет детей золотоперых,
Опустит крылья на покой.
Таков Гамлет. По этому описанию можно думать, что имеешь дело с юношей, если бы Шекспир не сообщал в последнем действии, что Гамлету уже 30 лет, и если бы не его размышления, которые изобличают в нем человека, уже давно живущего на свете. И как странно – при такой склонности к размышлению о жизни, какую проявил Гамлет еще в ту пору, когда был Жаком – он не знает ни жизни, ни людей, «Чем было впечатление, произведшее столь потрясающее действие на Гамлета, как не тем уничтожающим чувством, которое испытывает каждый благородный юноша, впервые увидевший мир в его наготе и восклицающий: «Ах, совсем не такой представлял я себе жизнь».[18 - Brandes. 513.] Так, повторяя ставшее общим местом мнение, говорит о Гамлете Брандес и не задает себе столь естественного вопроса: отчего это Гамлету, «гениальному человеку», «мыслителю по природе», «размышляющему не только затем, чтобы направлять свои действия и разумно подготовлять их, а из страсти к познаванию», отчего это Гамлету, до 30 лет размышлявшему – его размышления так мало принесли, что жизнь застает его настолько же врасплох, как и каждого «благородного юношу» и заставляет его воскликнуть это «ах», столь непонятное в устах гениального мыслителя? В чем дело тут? Отчего размышления оказали столь коварную услугу бедному принцу.
Ответ на это можно получить лишь заглянувши в прошлое Гамлета, в ту эпоху, когда он учился еще и жил в Виттенберге, до роковой смерти его отца. Брандесу это не нужно. Он наивно воображает, что можно «познавать» непрерывно до 30 лет и так же мало знать жизнь, как и «каждый благородный юноша». Но, справившись у Жака, как он «познавал», мы поймем это странное с первого взгляда явление, что человек блестящего ума, дожив до зрелых лет, совершенно не всмотрелся в жизнь. Тот школьный, теоретический способ мышления, которому научили его книги, лишил его возможности понимать жизнь, как она есть. В его душе создался свой мир, в котором все координировано, все устроено, все приспособлено, упрощено. Несмотря на страшные слова «зло», «порок», «преступление», «неправда» и т. д., которые так быстро передвигают Жаки и Гамлеты в том своеобразном душевном процессе, который они называют «мышлением», у них нет серьезного горя и поэтому нет и потребности всмотреться в жизнь, понять ее. Они блестяще бичуют, они ненавидят то, что заклеймено словом «дурное», благоговейно мечтают о том, что вознесено словом «хорошее». И вся душевная деятельность их этим ограничивается. Они мыслят «вообще», абстракциями, всегда чистыми, даже тогда, когда под ними кроется самое ужасное. И у них образуется свой искусственный, идеальный мирок, миленький, чистенький, с благородными проклятиями и еще более благородными молитвами. Там есть преступление – без преступника, зло – без злого человека, разврат без негодяя. И так хорошо, приятно и легко в этом усмиренном наукой мире. Все ясно, все видно, все понятно. Там обличение неправды, бичевание порока в стихах и прозе приносит отраду возвышенной душе. В этих оазисах, где везде зелень и прохлада, где из рассказов старой няни или слепого певца узнают о страшных пустынях и безбрежных морях, живут и мыслят Гамлеты. Но человек должен выйти из оазиса, чтоб увидеть жизнь.
Гамлет не хочет идти. Судьба насильно влечет его, но он не понимает, зачем и куда зовет его этот властный голос. Ему страшно подумать, что нужно будет открыть глаза, выйти из мира сладких грез. Но кто сам не просыпается, кто сам не рвется навстречу бурям и опасностям, тому все-таки не миновать их. Пробьет его час, и страшный удар разбудит его.
В этом завязка великой трагедии Гамлета. Не для забавы, не для психологического опыта выбросил Шекспир в «Гамлете» слабого человека в открытое море, в добычу всем невзгодам, как и в «Короле Лире» поэт не ради эффекта, хотя бы и трагического, заставил короля подставлять свою бедную седую, гордую голову под жестокие удары бессердечных дочерей. Не «характеры» Гамлета и Лира были «причиною» их бед и не причин искал Шекспир в эту эпоху. «Почему» его уже не удовлетворяло. Он спросил себя: «Зачем?».
Уже в первом действии перед нами – печальный Гамлет. Это уже не отвлеченная печаль меланхолика Жака. Поспешный брак матери смутил бедного принца. Ему на самом деле тяжело, а он не привык, не умеет носить бремя, не знает, к чему ему это. Ему хочется забыться, сбросить с себя ненужную ношу. Зачем она?
О, если б вы, души моей оковы,
Ты крепко сплоченный состав костей,
Ниспал росой, туманом испарился!
Иль если б ты, Судья земли и неба,
Не запретил греха самоубийства,
восклицает он. Тут каждое слово, каждый оборот речи типически гамлетовский. Первое горе – и он хочет сбросить с себя оковы своей души. Он умеет «думать» – а ему и в голову не приходит, что может быть выход из тяжелого положения, что нужно нести на себе не только мировую скорбь по поводу существования зла, но и малую долю этого зла. И при том – это «если»! Если бы сами собой оковы ниспали росой, если бы Бог не запретил самоубийства! К единственно видному для Гамлета исходу он приставляет это «если», которое все убивает. Как Жак, когда он размышлял «вообще», так и Гамлет, когда наткнулся на требующий ответа вопрос, не приходит и не может прийти ни к какому заключению. Чтобы увидеть, нужно всем существом своим захотеть посмотреть, Гамлет же хочет только, чтобы само собой случилось нечто такое, что облегчило бы его положение. Он «мыслитель». События отражаются и запечатлеваются на поверхности его души, как предметы на фотографической пластинке: отчетливо, верно, – даже красиво – но мертво. Привнести от себя он не хочет и не может решительно ничего. Прежде было так, – теперь иначе. Он не узнает свет – и не только не хочет всмотреться в то новое, что открыл пред ним поспешный брак матери – он хочет забыть и старое. «Вопрос об отношении между добром и злом здесь, на земле, с его неразрешимой загадкой ведет к вопросу об управлении миром, о царящей справедливости, об отношении мира к Богу. И мысль – Гамлета и Шекспира – стучится в дверь тайны», – говорит Брандес. «Вопросы» Гамлет разбирал еще отлично и в Виттенберге, где вместе со своим ученым другом Горацио не раз подходил к таинственной двери и не раз стучался в нее. Но теперь не в «вопросе» дело и не в том, чтобы «постучаться». Гамлет, по обыкновению своему, натолкнувшись на трудное дело, ищет в сокровищнице своего ученического опыта материала для разрешения вопроса. Но там, куда обращает он свой печальный взор, нет ничего, что дало бы ему нравственную опору. Вся книжная мудрость кончается там, где начинаются житейские волнения, человеческие нужды, запросы души. Какая книга оправдает в его глазах – нет, не оправдает, а просто объяснит преступление родной матери? Он читал в истории, что были страшно преступные люди. Он знает про Нерона, умертвившего свою мать, знает вообще, какую силу имеет на земле «зло». Но все эти сведения ничего не говорили ему. Для него это были мифы из сказочного царства, которые никогда осязательно, облеченные в плоть и кровь, не восставали перед ним. Он принимал всю эту ученую пищу, он расширял свой теоретический опыт, но чем больше узнавал он из книг, тем меньше понимал он реальное, конкретное значение этого огромного мира с его бесконечным прошлым и обширным настоящим.
Весь этот мир существовал для него, как нечто отвлеченное, как отдаленные края северного полюса, куда никогда не ступит человеческая нога. А наряду с тем как действительность уходила в область абстракции, абстракции занимали место действительности. И вдруг эта действительность, от которой он было так счастливо избавился, предъявляет на него свои права. Мать, родная мать «пала на кровосмешенья ложе!». Не Клеопатра, историческая, отдаленная, почти фантастическая совершает прелюбодеяние: Клеопатру Гамлет отлично «понимал», как представительницу «начала», именуемого «злом». И знал, что нужно и благородно возмущаться развратной египетской царицей. Но его, Гамлета, мать совершила преступление! Об этом ни в одной книге ничего не говорилось. Это то, чего не бывает и не должно быть. Что предпринять, что думать, куда глядеть? Бедный принц не находит ничего, кроме беспомощных, горьких слов, среди которых слышится одно желание: забыть все происшедшее, уйти куда-нибудь далеко, где никто и ничего не напоминало бы об ужасе действительности. «Покинь меня, воспоминанья сила!» – восклицает он, и вы чувствуете, что это все, что ему нужно. Он не хочет знать того, что пред ним происходит. Точно тяжкий, неизлечимый больной он просит себе лишь одного: забвенья. И ведь то, что он знает – ничтожно сравнительно с тем, что ему предстоит узнать, и он уже настолько потерялся, что говорит:
О Боже мой, о Боже милосердый!
Как пошло, пусто, плоско и ничтожно
В моих глазах житье на этом свете.
Презренный мир – ты опустелый сад,
Негодных трав пустое достоянье.
Первый грубый толчок действительности, и все здание его фантастического мира разрушено. Вот к чему привело его «размышление», «страсть к познаванию ради познавания». Он настолько не знал жизни, он был так далек от нее, что не выдержал первого испытания – он, «гениальный человек», он, «мыслитель по природе»! Он умеет отлично объяснить вселенную: ни гром, ни молния; ни бури, ни затмения не смутят его. Но он спасовал пред первым серьезным жизненным явлением, потребовавшим понимания. Все, о чем он до сих пор думал, ему не нужно теперь: оно не поможет ему. Отрицать жизнь – это уже теперь видно из монолога Гамлета – значит не знать ее, лишиться способности охватить ее. Поступок матери закрыл пред Гамлетом весь мир. И не на минуту, а навсегда.
Не успел Гамлет окончить свой жалобный первый монолог, исполненный укоров людям и всей жизни, тот знаменитый монолог, где он произносит приговор всему и всем, и воскликнуть: «Скорби, душа, уста должны молчать», как является Горацио с товарищами и возвещают ему страшную новость: дух его отца является по ночам на террасу замка. Гамлет условливается прийти в полночь туда же и там узнает страшную тайну. Вместе с тем он получает от духа и приказание. Тень говорит ему:
Отмсти, отмсти за гнусное убийство.
Положение Гамлета сразу изменяется. Уже нельзя более проклинать людей и жизнь и говорить: «Скорби, душа, уста должны молчать». Потрясающая весть об изменническом убийстве должна взволновать его до глубины души, должна сразу выяснить ему, что все его прежние рассуждения: «мир – театр», «мир – опустелый сад», «житье на этом свете пусто и ничтожно» – ни к чему не нужны, что все это – пустые слова, обманывающие лишь внешней стройностью построений. Замершее, прибитое чувство жизни вдруг должно вспыхнуть в Гамлете ярким пламенем при этой вести и показать ему всю глубокую серьезность жизни, требующей себе всего человека; и на мгновение Гамлет становится другим. Он молит тень:
Скажи скорей! На крыльях
Как мысль любви, как вдохновенье, быстрых,
Я к мести полечу.
И тень отвечает ему:
Я вижу – ты готов.
Но будь ты вял, как сонная трава,
Что мирно спит на Леты берегах,
Проснуться ты при этой вести должен!
Иначе и быть не может. С возрастающим ужасом слушает принц разрывающий душу рассказ отца.
Так я убит во сне рукою брата,
Убит в весне грехов, без покаянья,
Без исповеди и без тайн святых.
Не кончив счет – я был на суд отозван
Со всею тяжестью земных грехов.
Ужасно, о ужасно, о ужасно!
Любовник он, вздыхающий, как печка,
Тоскливою балладой в честь бровей
Возлюбленной своей, затем он воин,
Обросший бородой, как леопард,
Наполненный ругательствами, честью
Ревниво дорожащий, быстро в спор
Вступающий и за парами славы
Готовый взлезть хоть в самое жерло
Орудия; затем – судья с почтенным
Животиком, в котором каплуна
Отличного он спрятал, с строгим взором,
С остриженной красиво бородою,
Исполненный мудрейших изречений
И аксиом новейших – роль свою
Играет он. В шестом из этих действий
Является он тощим паяцем
С очками на носу и с сумкой сбоку.
Штаны его, что юношей еще
Себе он сшил, отлично сохранились,
Но широки безмерно для его
Иссохших ног, а мужественный голос,
Сменившийся ребячливым дискантом,
Свист издает пронзительно фальшивый;
Последний акт, кончающий собой
Столь полную и сложную историю,
Есть новое младенчество, – пора
Беззубая, безглазая, без вкуса,
Без памяти малейшей, без всего.
Несомненно, что эта речь целиком могла бы быть приписана Гамлету, многие рассуждения которого очень ее напоминают. Несомненно и то, что «мыслитель»-Жак проявился в этом ?berblick'e вполне, если раньше приведенные его рассуждения еще недостаточно обрисовали его с этой стороны. По одной этой речи можно разгадать Жака. Она прежде всего поражает вас. В столь немногих словах изображена вся длинная жизнь человека – от младенчества до глубокой старости. И все так ясно, просто и определенно. Но вдумайтесь чуточку в нее, и вас поразит обратное: она не только не говорит много – она не говорит ничего. Жак хотел изобразить жизнь и для этого поступил с ней, как поступает ученый, когда ему нужно изучить и описать какое-нибудь насекомое. Он прикалывает его булавкой и, выждав, чтоб оно перестало трепетать и бросаться, рассматривает его и потом рассказывает нам подробно о его строении. Но мертвое насекомое – интересно. Наколотая же на булавку мертвая жизнь – это никому не нужная нелепость. Сперва человек блеющий ребенок, потом – школьник, потом вздыхающий, как печка, любовник, обросший, как леопард, воин, судья с каплуном в животике, тощий паяц с ребячьим дискантом и, наконец, – пора младенчества. Все это – правда, как правда, что у бабочки есть крылья, туловище, глаза и т. п., но уже описание бабочки в книге натуралиста заключает в себе неправду, ибо рассказывает о ней лишь очень немногое. В рассказе Жака сохранились лишь верстовые столбы человеческой жизни, общие ее очертания – а претендует он на объяснение всей жизни. Он выжал из нее все соки, отнял у нее все краски, лишил ее всех ароматов, – и потом судит о ней, полагая, что это самый правильный способ суждения. И Брандес называет его – ?berblick – великим. Все вокруг Жака опровергает каждое его слово. Кругом жизнь кипит, бьет ключом, полным, сверкающим, радостным. Все действующие лица сошлись словно на праздник любви и веселья. Но к этому Жак нечувствителен: он – мыслитель. Эта специфическая способность не чувствовать в живом жизни, приравнивать одушевленное к мертвому – есть основная черта мыслителя. Чтобы стать объективным ученым, чтобы уметь все отмечать точным, определенным, ясным языком – нужно прежде всего утратить инстинкт жизни, представлять себе все и всех замершими, недвижимыми. Это условие существования мыслителя как типа. Жизнь мешает ровному потоку его мыслей, неожиданным образом врываясь в его душу и разрушая законченные построения его. Нужно избавиться от этого непрошеного буйного гостя, нужно утратить чувство жизни – и тогда лишь можно спокойно мыслить без опасения, что из всего этого процесса ничего не выйдет. Мыслитель принужден держаться поверхности явлений, всех без исключения – будут ли то явления мертвой, неорганической природы или живого, органического существования. Он ищет логической связи, он ищет нити, ему нужны только очертания; он умеет орудовать только понятиями. И поэтому мыслитель бессознательно приучается убивать все живое. Рассказать о розе – не значит ли отнять у нее все ее краски и ароматы? Рассказать о любви Розалинды – не значит ли наколоть бабочку на булавку? Розу и бабочку нужно видеть в яркий весенний день, когда одна цветет и благоухает, а другая свободно купается в лучах солнца. Их можно нарисовать – это дело художника. Но мыслитель может только убить их. И это – нужно. Нужно изучить засохшую розу и мертвую бабочку. Нельзя лишь выдавать их за живых. Мыслитель же, прикасаясь к жизни, не умеет отделаться от инстинктивного стремления к упрощению и получаются картины вроде той, которую нарисовал Жак. Они сперва поражают своей якобы бесконечной перспективой, и многие другие, вместе с Брандесом готовы удивляться им и называть их великими. В сущности – это бессознательное фокусничество опытного ума, дающее фикции и миражи взамен обещанных картин жизни.
Но, повторяем, все это у Жаков, у «мыслителей по природе» происходит бессознательно, в силу усвоенной привычки «мыслить», т. е. обращаться к явлениям одною стороной своего существа. Умысла дурного у них, конечно, нет. Но тем печальнее, тем хуже для Жаков. Эта привычка дорого им обходится. Она принижает в них все стороны душевной деятельности – для одной. Научаясь глядеть далеко, они теряют способность всматриваться вглубь. Их жизненный пульс бьется слабее. Многое перестает говорить их сердцу, что прежде так ценилось ими. Они уже не понимают людей с их радостями и скорбями, с их стремлениями, надеждами, разочарованиями. «Мир – есть театр».
Хорошо, если им достанется в удел чисто научная деятельность. Среди колб, реторт, глобусов, машин – они в своем мире. Там – чем меньше спрашиваешь жизнь, чем больше бежишь ее – тем лучше. Там они будут на своем месте.
Но если судьба властным голосом потребует их к жизни? Ответом на этот вопрос и служит «Гамлет».
VI
Мы ознакомились с Жаком, которого назвали Гамлетом до трагедии. Мы знаем его блестящую речь «мир – театр», которая своей тонкостью и остроумием не уступит рассуждениям датского принца об Александре Македонском. Гамлет до трагедии нам более или менее ясен. Он милый, умный, начитанный, кроткий, экспансивный человек. Королева говорила про него:
Гамлет безумствует, но не надолго.
Припадок бешеный им овладел.
Мгновение – и он, как голубица,
Родив на свет детей золотоперых,
Опустит крылья на покой.
Таков Гамлет. По этому описанию можно думать, что имеешь дело с юношей, если бы Шекспир не сообщал в последнем действии, что Гамлету уже 30 лет, и если бы не его размышления, которые изобличают в нем человека, уже давно живущего на свете. И как странно – при такой склонности к размышлению о жизни, какую проявил Гамлет еще в ту пору, когда был Жаком – он не знает ни жизни, ни людей, «Чем было впечатление, произведшее столь потрясающее действие на Гамлета, как не тем уничтожающим чувством, которое испытывает каждый благородный юноша, впервые увидевший мир в его наготе и восклицающий: «Ах, совсем не такой представлял я себе жизнь».[18 - Brandes. 513.] Так, повторяя ставшее общим местом мнение, говорит о Гамлете Брандес и не задает себе столь естественного вопроса: отчего это Гамлету, «гениальному человеку», «мыслителю по природе», «размышляющему не только затем, чтобы направлять свои действия и разумно подготовлять их, а из страсти к познаванию», отчего это Гамлету, до 30 лет размышлявшему – его размышления так мало принесли, что жизнь застает его настолько же врасплох, как и каждого «благородного юношу» и заставляет его воскликнуть это «ах», столь непонятное в устах гениального мыслителя? В чем дело тут? Отчего размышления оказали столь коварную услугу бедному принцу.
Ответ на это можно получить лишь заглянувши в прошлое Гамлета, в ту эпоху, когда он учился еще и жил в Виттенберге, до роковой смерти его отца. Брандесу это не нужно. Он наивно воображает, что можно «познавать» непрерывно до 30 лет и так же мало знать жизнь, как и «каждый благородный юноша». Но, справившись у Жака, как он «познавал», мы поймем это странное с первого взгляда явление, что человек блестящего ума, дожив до зрелых лет, совершенно не всмотрелся в жизнь. Тот школьный, теоретический способ мышления, которому научили его книги, лишил его возможности понимать жизнь, как она есть. В его душе создался свой мир, в котором все координировано, все устроено, все приспособлено, упрощено. Несмотря на страшные слова «зло», «порок», «преступление», «неправда» и т. д., которые так быстро передвигают Жаки и Гамлеты в том своеобразном душевном процессе, который они называют «мышлением», у них нет серьезного горя и поэтому нет и потребности всмотреться в жизнь, понять ее. Они блестяще бичуют, они ненавидят то, что заклеймено словом «дурное», благоговейно мечтают о том, что вознесено словом «хорошее». И вся душевная деятельность их этим ограничивается. Они мыслят «вообще», абстракциями, всегда чистыми, даже тогда, когда под ними кроется самое ужасное. И у них образуется свой искусственный, идеальный мирок, миленький, чистенький, с благородными проклятиями и еще более благородными молитвами. Там есть преступление – без преступника, зло – без злого человека, разврат без негодяя. И так хорошо, приятно и легко в этом усмиренном наукой мире. Все ясно, все видно, все понятно. Там обличение неправды, бичевание порока в стихах и прозе приносит отраду возвышенной душе. В этих оазисах, где везде зелень и прохлада, где из рассказов старой няни или слепого певца узнают о страшных пустынях и безбрежных морях, живут и мыслят Гамлеты. Но человек должен выйти из оазиса, чтоб увидеть жизнь.
Гамлет не хочет идти. Судьба насильно влечет его, но он не понимает, зачем и куда зовет его этот властный голос. Ему страшно подумать, что нужно будет открыть глаза, выйти из мира сладких грез. Но кто сам не просыпается, кто сам не рвется навстречу бурям и опасностям, тому все-таки не миновать их. Пробьет его час, и страшный удар разбудит его.
В этом завязка великой трагедии Гамлета. Не для забавы, не для психологического опыта выбросил Шекспир в «Гамлете» слабого человека в открытое море, в добычу всем невзгодам, как и в «Короле Лире» поэт не ради эффекта, хотя бы и трагического, заставил короля подставлять свою бедную седую, гордую голову под жестокие удары бессердечных дочерей. Не «характеры» Гамлета и Лира были «причиною» их бед и не причин искал Шекспир в эту эпоху. «Почему» его уже не удовлетворяло. Он спросил себя: «Зачем?».
Уже в первом действии перед нами – печальный Гамлет. Это уже не отвлеченная печаль меланхолика Жака. Поспешный брак матери смутил бедного принца. Ему на самом деле тяжело, а он не привык, не умеет носить бремя, не знает, к чему ему это. Ему хочется забыться, сбросить с себя ненужную ношу. Зачем она?
О, если б вы, души моей оковы,
Ты крепко сплоченный состав костей,
Ниспал росой, туманом испарился!
Иль если б ты, Судья земли и неба,
Не запретил греха самоубийства,
восклицает он. Тут каждое слово, каждый оборот речи типически гамлетовский. Первое горе – и он хочет сбросить с себя оковы своей души. Он умеет «думать» – а ему и в голову не приходит, что может быть выход из тяжелого положения, что нужно нести на себе не только мировую скорбь по поводу существования зла, но и малую долю этого зла. И при том – это «если»! Если бы сами собой оковы ниспали росой, если бы Бог не запретил самоубийства! К единственно видному для Гамлета исходу он приставляет это «если», которое все убивает. Как Жак, когда он размышлял «вообще», так и Гамлет, когда наткнулся на требующий ответа вопрос, не приходит и не может прийти ни к какому заключению. Чтобы увидеть, нужно всем существом своим захотеть посмотреть, Гамлет же хочет только, чтобы само собой случилось нечто такое, что облегчило бы его положение. Он «мыслитель». События отражаются и запечатлеваются на поверхности его души, как предметы на фотографической пластинке: отчетливо, верно, – даже красиво – но мертво. Привнести от себя он не хочет и не может решительно ничего. Прежде было так, – теперь иначе. Он не узнает свет – и не только не хочет всмотреться в то новое, что открыл пред ним поспешный брак матери – он хочет забыть и старое. «Вопрос об отношении между добром и злом здесь, на земле, с его неразрешимой загадкой ведет к вопросу об управлении миром, о царящей справедливости, об отношении мира к Богу. И мысль – Гамлета и Шекспира – стучится в дверь тайны», – говорит Брандес. «Вопросы» Гамлет разбирал еще отлично и в Виттенберге, где вместе со своим ученым другом Горацио не раз подходил к таинственной двери и не раз стучался в нее. Но теперь не в «вопросе» дело и не в том, чтобы «постучаться». Гамлет, по обыкновению своему, натолкнувшись на трудное дело, ищет в сокровищнице своего ученического опыта материала для разрешения вопроса. Но там, куда обращает он свой печальный взор, нет ничего, что дало бы ему нравственную опору. Вся книжная мудрость кончается там, где начинаются житейские волнения, человеческие нужды, запросы души. Какая книга оправдает в его глазах – нет, не оправдает, а просто объяснит преступление родной матери? Он читал в истории, что были страшно преступные люди. Он знает про Нерона, умертвившего свою мать, знает вообще, какую силу имеет на земле «зло». Но все эти сведения ничего не говорили ему. Для него это были мифы из сказочного царства, которые никогда осязательно, облеченные в плоть и кровь, не восставали перед ним. Он принимал всю эту ученую пищу, он расширял свой теоретический опыт, но чем больше узнавал он из книг, тем меньше понимал он реальное, конкретное значение этого огромного мира с его бесконечным прошлым и обширным настоящим.
Весь этот мир существовал для него, как нечто отвлеченное, как отдаленные края северного полюса, куда никогда не ступит человеческая нога. А наряду с тем как действительность уходила в область абстракции, абстракции занимали место действительности. И вдруг эта действительность, от которой он было так счастливо избавился, предъявляет на него свои права. Мать, родная мать «пала на кровосмешенья ложе!». Не Клеопатра, историческая, отдаленная, почти фантастическая совершает прелюбодеяние: Клеопатру Гамлет отлично «понимал», как представительницу «начала», именуемого «злом». И знал, что нужно и благородно возмущаться развратной египетской царицей. Но его, Гамлета, мать совершила преступление! Об этом ни в одной книге ничего не говорилось. Это то, чего не бывает и не должно быть. Что предпринять, что думать, куда глядеть? Бедный принц не находит ничего, кроме беспомощных, горьких слов, среди которых слышится одно желание: забыть все происшедшее, уйти куда-нибудь далеко, где никто и ничего не напоминало бы об ужасе действительности. «Покинь меня, воспоминанья сила!» – восклицает он, и вы чувствуете, что это все, что ему нужно. Он не хочет знать того, что пред ним происходит. Точно тяжкий, неизлечимый больной он просит себе лишь одного: забвенья. И ведь то, что он знает – ничтожно сравнительно с тем, что ему предстоит узнать, и он уже настолько потерялся, что говорит:
О Боже мой, о Боже милосердый!
Как пошло, пусто, плоско и ничтожно
В моих глазах житье на этом свете.
Презренный мир – ты опустелый сад,
Негодных трав пустое достоянье.
Первый грубый толчок действительности, и все здание его фантастического мира разрушено. Вот к чему привело его «размышление», «страсть к познаванию ради познавания». Он настолько не знал жизни, он был так далек от нее, что не выдержал первого испытания – он, «гениальный человек», он, «мыслитель по природе»! Он умеет отлично объяснить вселенную: ни гром, ни молния; ни бури, ни затмения не смутят его. Но он спасовал пред первым серьезным жизненным явлением, потребовавшим понимания. Все, о чем он до сих пор думал, ему не нужно теперь: оно не поможет ему. Отрицать жизнь – это уже теперь видно из монолога Гамлета – значит не знать ее, лишиться способности охватить ее. Поступок матери закрыл пред Гамлетом весь мир. И не на минуту, а навсегда.
Не успел Гамлет окончить свой жалобный первый монолог, исполненный укоров людям и всей жизни, тот знаменитый монолог, где он произносит приговор всему и всем, и воскликнуть: «Скорби, душа, уста должны молчать», как является Горацио с товарищами и возвещают ему страшную новость: дух его отца является по ночам на террасу замка. Гамлет условливается прийти в полночь туда же и там узнает страшную тайну. Вместе с тем он получает от духа и приказание. Тень говорит ему:
Отмсти, отмсти за гнусное убийство.
Положение Гамлета сразу изменяется. Уже нельзя более проклинать людей и жизнь и говорить: «Скорби, душа, уста должны молчать». Потрясающая весть об изменническом убийстве должна взволновать его до глубины души, должна сразу выяснить ему, что все его прежние рассуждения: «мир – театр», «мир – опустелый сад», «житье на этом свете пусто и ничтожно» – ни к чему не нужны, что все это – пустые слова, обманывающие лишь внешней стройностью построений. Замершее, прибитое чувство жизни вдруг должно вспыхнуть в Гамлете ярким пламенем при этой вести и показать ему всю глубокую серьезность жизни, требующей себе всего человека; и на мгновение Гамлет становится другим. Он молит тень:
Скажи скорей! На крыльях
Как мысль любви, как вдохновенье, быстрых,
Я к мести полечу.
И тень отвечает ему:
Я вижу – ты готов.
Но будь ты вял, как сонная трава,
Что мирно спит на Леты берегах,
Проснуться ты при этой вести должен!
Иначе и быть не может. С возрастающим ужасом слушает принц разрывающий душу рассказ отца.
Так я убит во сне рукою брата,
Убит в весне грехов, без покаянья,
Без исповеди и без тайн святых.
Не кончив счет – я был на суд отозван
Со всею тяжестью земных грехов.
Ужасно, о ужасно, о ужасно!