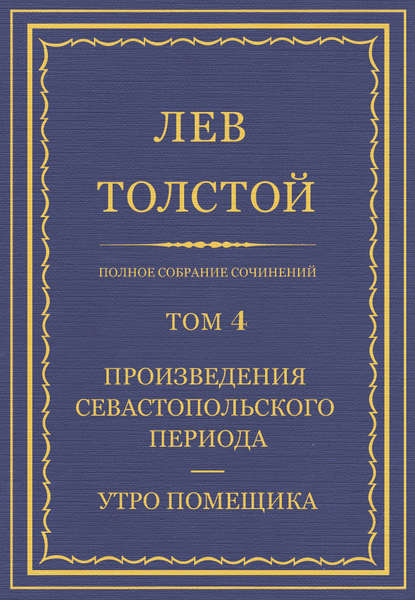По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 4. Произведения Севастопольского периода. Утро помещика
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кому нужны доходы, а кто из чести служит! – с досадой в голосе опять вмешался Козельцов старший.
– Что за честь, когда нечего есть! – презрительно смеясь, сказал комисионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом. – Заведи-ка из «Лучии»: мы послушаем, – сказал он, указывая на коробочку с музыкой: – я люблю ее…
– Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? – спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.
– Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет 300 рублей в месяц! а живет как свинья, ведь ты видел. А комисионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч 12 вывез… – И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство – зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.
10.
Володя не то, чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту чрез бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Всё, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими, недавними впечатлениями: паркетная светлая, большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть, и который, прощаясь с ними со слезами, называет их детьми своими, – и так мало всё, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.
– Ну, вот мы и приехали! – сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки. – Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк – узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приеду за тобой.
– Зачем же? лучше вместе пойдем, – сказал Володя. – И я пойду с тобой на бастион. Ведь уж всё равно: привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу.
– Лучше не ходить.
– Нет, пожалуйста, я, по крайней мере, узнаю, как…
– Мой совет не ходить, а пожалуй…
Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанно движущиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ему, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок, и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул:
– Кто идет?
– Солдат!
– Не велено пущать!
– Да как же! Нам нужно.
– Офицера спросите.
Офицер, дремавший, сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.
– Туда можно, оттуда нельзя. Куда лезешь все разом! – крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.
Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.
– Когда он амунишные получил, значит он в расчете сполностью – вот что…
– Эк, братцы! – сказал другой голос, – как на Сиверную перевалишь, свет увидишь, ей-Богу! Совсем воздух другой.
– Говори больше! – сказал первый: – намеднись тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала, так не говори лучше.
Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист; мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечно-ровной черной линией от звездного, светло-сероватого в слиянии горизонта; и далеко где-то светились огни на неприятельском флоте. Налево чернела темная масса нашего корабля, и слышались удары волн о борта его; виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Северной. Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то матрос в одной рубахе и топором рубил что-то. Впереди, над Севастополем, носились те же огни, и громче и громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе; два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нем повозку и верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.
– А, Михаил Семеныч! – сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова, – что, уж совсем поправились?
– Как видите. Куда вас Бог несет?
– На Северную за патронами; ведь я нынче за полкового адъютанта… штурма ждем с часу на час, а по 5 патронов в суме нет. Отличные распоряжения!
– А где же Марцов?
– Вчера ногу оторвало… в городе, в комнате спал… Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.
– Полк на 5-м, правда?
– Да, на место М…цов заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт: там наши есть – вас проводят.
– Ну, а квартерка моя на Морской цела?
– И, батюшка! уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя; уж женщин ни души нет, ни трактиров, ни музыки; вчера последнее заведенье переехало. Теперь ужасно грустно стало… Прощайте!
И офицер рысью поехал дальше.
Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему всё казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, казалось, всё говорило ему, чтоб он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. «Но, может, уж поздно, уж решено теперь», подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью от того, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.
Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата.
– Господи! неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! – сказал он шопотом и перекрестился.
– Ну, пойдем, Володя – сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. – Видел бомбу?
На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их.
Инстинктивно, придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже над головами, и рёву осколков, валившихся сверху, – пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что 5 легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, итти ночевать к старшему брату на 5 бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они наконец пришли на перевязочный пункт.
11.
Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно-ужасным гошпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу.
Одна женщина, лет 50, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет 20, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.
Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.
– Это, кажется, П. полка? – спросила старшая. – Что, он вам родственник?
– Нет-с, товарищ.
– Гм! Проводите их, – сказала она молодой сестре, по-французски, – вот сюда, – а сама подошла с фельдшером к раненому.
– Пойдем же, что ты смотришь! – сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться – смотрел на раненых. – Пойдем же.
Володя пошел с братом, но всё продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:
– Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!