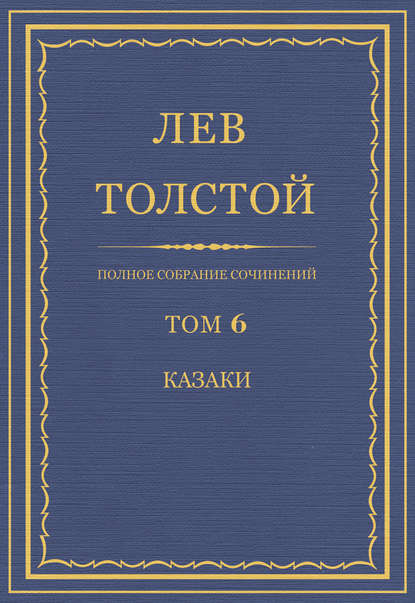По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 6. Казаки
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.
– Ларжан,[25 - [Деньги,]] – сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед затем сам хорунжий в новой черкеске, с офицерскими погонами на плечах, в чищеных сапогах, – редкость у казаков, – с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом.
Хорунжий, Илья Васильевич, был казак образованный, побывавший в России, школьный учитель и, главное, благородный. Он хотел казаться благородным; но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.
– Здравствуй, батюшка Илья Васильевич! – сказал Ерошка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.
– Здорово, дядя! Уж ты тут? – отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.
Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он видимо боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.
– Это наш Нимврод египетский, – сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика. – Ловец пред господином. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?
Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: «Нимрод гицкий! Чего не выдумает?»
– Да вот на охоту хотим итти, – сказал Оленин.
– Так-с точно, – заметил хорунжий; – а у меня дельца есть к вам.
– Чт? прикажете?
– Как вы есть благородный человек, – начал хорунжий, – и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов, – а задаром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия…
– Чисто говорит, – пробормотал старик.
Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изо всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.
– По нашему глупому обряду, – сказал он, – мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия…
– Что ж, прикажете чаю?
– Ежели позволите, я свой стакан принесу, особливый, – отвечал хорунжий и вышел на крыльцо. – Стакан подай! – крикнул он.
Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в особливый, Ерошке в мирской стакан.
– Однако не желаю вас задерживать, – сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. – Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекриации от должности. Тоже имею желание испытать счастие, не попадутся ли и на мою долю дары Терека. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить родительского, по нашему станичному обычаю, – прибавил он.
Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.
– Плут же, – сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана. – Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.
– Нет, уж я здесь останусь, – сказал Оленин.
– Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! – отвечал старик. – Чихирю дай, Иван!
Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.
В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.
– Мамушка! – проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.
Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.
Оленину сделалось еще веселее.
– Ну, идем, идем! – сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.
– Ги! Ги! – прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед затем заскрипела тронувшаяся арба.
Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и всё бранил его.
– Да за что же ты так сердишься на него? – спросил Оленин.
– Скупой! Не люблю, – отвечал старик. – Издохнет, всё останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.
– Так на приданое и копит, – сказал Оленин.
– Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой чорт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, чт? чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье; девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы покла?нялись. Нынче чт? сраму было за девку за эту. А всё Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.
– А что это? Я вчера как по двору ходил видел девка хозяйская с каким-то казаком целовалась, – сказал Оленин.
– Хвастаешь, – крикнул старик, останавливаясь.
– Ей-Богу! – сказал Оленин.
– Баба чорт, – раздумывая сказал Ерошка. – А какой казак?
– Я не видал какой.
– Ну, курпей какой на шапке? белый?
– Да.
– А зипун красный? С тебя, такой же?
– Нет, побольше.
– Он и есть. – Ерошка захохотал. – Он и есть, Марка мой. Он Лукашка. Я его Марка зову, шутю. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало с матерью, с невесткой спит душенька-то моя, а я все влезу. Бывало – жила она высоко; мать ведьма была, чорт; страсть не любила меня, – приду бывало с няней (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул: так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе, и винограду, всего натащит, – прибавил Ерошка, объяснявший всё практически. – Да не одна была. Житье бывало.
– А теперь что ж?
– А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.
– Ты бы за Марьянкой поволочился?
– Ты смотри на собак-то. Вечером докажу, – сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.
Они замолкли.