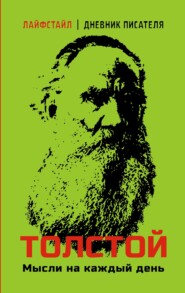По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Война и мир. Том I–II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После охоты Ростовы приезжают в дом к дядюшке: «Через переднюю дядюшка провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном, истасканным ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина и его самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак.
В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай с невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами» (ч. 4, гл. VII). Вглядимся в эту жанровую сцену. Дядюшка – внешне почти вылитый господин Ноздрев из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: «Вошедши во двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей, муругих, черных с подпалинами, полно-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собак правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили своим лапы Ноздреву на плечи. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, – хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку – сука, точно, была слепая» (т. 1, гл. 4).
Собаки дядюшки Ростовых, правда, не ведут себя так панибратски с гостями, как ноздревские с Чичиковым; но зато у Ноздрева на диване не лежат. Любимая собака дядюшки Ростовых, кобель Ругай, почти тезка гоголевскому Обругаю.
Однако сходство двух сцен – поверхностное. У Гоголя смешавшиеся в кучу собаки и люди – свидетельство «оскотинивания», духовного падения человека, у Толстого – это симпатичная черта патриархального поместного быта, и только.
Особенно выразителен как вызов либеральным воззрениям в «Войне и мире» образ Николая Ростова – помещика.
«Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно именье, а не какая-нибудь отдельная часть его. В именье же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, посредством которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг – то есть работник-мужик.
И только тогда, когда он понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты» (Эпилог, ч. 1, гл. II).
Николай Ростов – ярый «антиреформатор» в ведении хозяйства. Его взгляды на сей счет (справедливость которых доказана на практике) – разительный контраст и нововведениям Онегина, заменившего «ярем барщины старинной» «оброком легким», и бесплодным реформам Николая Петровича Кирсанова из тургеневских «Отцов и детей».
На словах Ростов не любит русского мужика: «Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: “С нашим русским народом”, – и воображал себе, что он терпеть не может мужика.
Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты».
Эта внешняя нелюбовь при настоящей, глубинной, – как они непохожи на показное «мужиколюбие» Павла Петровича Кирсанова из «Отцов и детей», который даже держит на столике серебряную пепельницу в форме лаптя.
Ни Пушкин, приветствовавший нововведения Онегина («И раб судьбу благословил»), ни Тургенев не писали о любви мужиков к господам. Толстой решился и на это: «И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, – все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. “Хозяин был… Наперед мужицкое, а потом свое. Ну, и потачки не давал. Одно слово – хозяин!”» (Эпилог, ч. 1, гл. VII).
Он «простил» Николаю Ростову даже то, что либеральная мысль и словесность почитали неискупимым, неизбывным грехом, тягчайшим преступлением, – рукоприкладство по отношению к мужикам (у Толстого это управляющий из мужиков).
«Одно, что мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, это была его вспыльчивость в соединении с старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предосудительного, но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился.
Однажды летом из Богучарова был вызван староста <…>, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях. Николай вышел к нему на крыльцо, и с первых ответов старосты в сенях послышались крики и удары. <…>
Эдакой наглый мерзавец, – говорил он, горячась при одном воспоминании. – Ну, сказал бы он мне, что был пьян, не видал. Да что с тобой, Мари? – вдруг спросил он» (Эпилог, ч. 1, гл. VIII).
Жена упрекает мужа в таких поступках. Не одобряет, конечно, и Толстой. Но Николай не всегда может сдержать себя, и автор не судит строго за это своего героя: «С тех пор, как только при объяснениях со старостами и приказчиками кровь бросалась ему в лицо и руки начинали сжиматься в кулаками, Николай вертел разбитый перстень на пальце и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раза два в год он забывался и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь это было в последний раз.
– Мари, ты, верно, меня презираешь? – говорил он ей. – Я стою этого.
– Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться, – с грустью говорила графиня Марья, стараясь утешить мужа» (Эпилог, ч. 1, гл. VIII).
Конечно, «Война и мир» – это отнюдь не просто запоздалая апология «старого барства». Но понять роман Толстого без учета противостояния автора влиятельной «либеральной» традиции в отечественной словесности невозможно. Иначе происходит неизменное упрощение смысла этого произведения и позиции его создателя.
Противопоставляя себя – демонстративно, почти эпатирующим образом – радикальному демократическому движению, Толстой, тем не менее, оказывался не столь уж далек от нигилизма. Отрицание официальной истории созвучно установке написанной и изданной в одно время с «Войной и миром» «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отрицание условности, знаковости (восприятие оперы остранняющим взглядом «естественной» героини Наташи Ростовой, именование знамен тряпками на палках и многое прочее[16 - У Толстого к условностям, фантомным ценностям цивилизации отнесена и медицина (Пьер после лишений плена выздоровел, поскольку не лечился у докторов). С этим нигилисты-поклонники естественных наук, конечно бы, не согласились.]). Наконец, даже понимание призвания и воспевание женщины только как жены и матери (Наташа в эпилоге) вовсе не чуждо радикальной мысли. Представления Толстого здесь созвучны идеям популярного в нигилистических кругах Ж. Прудона, совсем не борца за эмансипацию женщин, высказанным в посмертно изданной книге «Порнократия, или Женщины в настоящее время»[17 - Прудон Ж. Что такое собственность? М., 1998. С. 270–275.].
«Благодаря <…> своеобразному своему положению в современности Толстой примкнул одной стороной своего романа к “обличительному” направлению и был истолкован как “нигилист”, как представитель левой “нетовщины”, а другой – оказался среди “крепостников”, среди представителей “старого барства”»[18 - Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 2.].
«Рецензии на “Войну и мир” похожи сейчас на хулиганство. Никто (кроме Страхова) ничего не понял», – писала о восприятии романа в критике Л.Я. Гинзбург[19 - Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 114.]. Исследовательница почти не преувеличивала. Книга имела громадный успех, но рецензенты не могли, а, как правило, и не желали (по причинам идеологическим) его объяснить. Отмечая успех романа, литератор и поэт радикального направления Д.Д. Минаев добавлял: «Пусть другие радуются, коли есть охота, но в сущности радоваться тут решительно нечему»[20 - Дело. 1868. № 4. Отд. II. С. 202.]. Д. И. Писарев, высоко оценивая талант писателя, судит неумолимым судом его героев: для критика автор «Войны и мира» только певец «старого барства», а ценность романа в том, что правда жизни победила авторскую идею: «старое барство» бесплодно и достойно лишь гримасы отвращения. М.К. Цебрикова перевела разговор на вопрос о женской эмансипации, с сожалением отметив, что Наташа не дотягивает до девиц-эмансипе. Н.В. Шелгунов изобличал ретроградные историософские взгляды Толстого: «“Война и мир”, в сущности, – славянофильский роман, в котором напутаны правда с ложью, наука с невежеством, благо со злом, прогресс с отсталостью. Это какая-то смесь немногого хорошего со многим дурным, возводящая графа Пьера в руководящий идеал, долженствующий обновить и просветить Россию. Только будет ли лучше, если судьбами России будут управлять такие умные люди?»[21 - Война из-за «Войны и мира». С. 352. Здесь же перепечатаны статьи Д. И. Писарева и М. К. Цебриковой.]
В. В. Берви-Флеровский, писавший под псевдонимом С. Навалихин, утверждал: «Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне». Князя Андрея критик аттестует как «цивилизованного бушмена» (у Болконского «тряпичный ум»), а Николая Ростова – как «одного из “изящных бушменов”»[22 - Дело. 1868. № 6. Отд. II. С. 25–26, 12, 18.].
В радикальной сатирической «Искре» печатались рисунки-карикатуры на героев романа с подписями гекзаметром – стихом античных героических поэм. Например, такая: «Гости уж все собрались – и на блюде горячем / Виконт де Мортмарт был предложен. / Не бойтесь, детки, кушать его ведь не будут. / Это сравненье – в эстетической сказке своей эстетике дань отдаю я»[23 - Ср. воспроизведение пародийных иллюстраций и рисунков в кн.: Шкловский В. Матерьял стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». Вклейка между с. 208 и 209. Пародируется сравнение представляемого Анной Павловной Шерер гостя-виконта с блюдом, которым сервируют стол (начало романа).Сестра С.А. Толстой, Т. А. Кузминская, передает (со слов супруга) желчные замечания М.Е. Салтыкова-Щедрина: «“Эти военные сцены – одна ложь и суета. Багратион и Кутузов – кукольные генералы. А вообще – болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше, так называемое, “высшее общество” граф лихо прохватил.”». – Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1976. С. 338.Отзывы либерала Тургенева были неоднозначными: признавая мастерство Толстого, он сетовал в письмах на чрезмерную детализацию переживаний героев и на любовь к «мелочам» – в жестах, в манере поведения, в одежде персонажей (статья «По поводу “Отцов и детей”» [1869], письмо П. Борисову [1870]).].
Голоса из правого лагеря были также, по большей части, враждебными: «в романе собраны только все скандальные анекдоты военного времени той эпохи»[24 - Норов А.С. Война и мир (1805–1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям совпременников. СПб., 1868. С. 2.]; «[э]то уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм. Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь и настоящего отрицанием событий минувшего и отрешением народных личностей <…> В упомянутой книге трудно решить и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман, и обратно. Это переплетение, или, скорее, перепутывание истории и романа, без сомнения, вредит первой и окончательно, перед судом здравой и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоинства последнего, т. е. романа[25 - Вяземский П. А. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив. 1869. № 1. С. 186–187.]».
И Норов, и Вяземский уличали автора «Войны и мира» в сознательном искажении истории, в клевете на нее.
Критики, отрешившиеся от идеологического приговора и выделившие основные художественные особенности романа (П. В. Анненков, Н.И. Соловьев), оценили их скорее как недостатки, чем как достоинства: ведь «Война и мир» разительно не соответствовала канону исторического романа[26 - Статьи переизданы в книге «Война из-за “Войны и мира”».].
Цикл статей Н.Н. Страхова действительно отчетливо выделяется на этом фоне[27 - Обзор откликов критиков на «Войну и мир» см. в статье: Сухих И. Н. Война и мир вокруг «Войны и мира» / / Война из-за «Войны и мира». С. 32.].
Лишь со временем были по-настоящему осознаны грандиозность и величие этой в высшей степени оригинальной толстовской книги.
А. М. Ранчин
Том первый
Часть первая
I
– Eh bien, mon prince. G?nes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous previens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocitеs de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) – je ne voue connais plus, vous n'?tes plus mon ami, vous n'?tes plus мой верный раб, comme vous dites[28 - Ну, князь, Генуя и Лукка – поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), – я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите (фр.) <Переводы, за исключением специально отмеченных, принадлежат Л.Н. Толстому; переводы с французского языка не оговариваются.>.]. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur[29 - Я вижу, что я вас пугаю.], садитесь и рассказывайте.
Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:
“Si vous n'avez rien de mieux ? faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirеe chez une pauvre malade no vous effray pas trop, je serai charmеe de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer’[30 - Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. Ан на Шерер.].
– Dieu, quelle virulente sortie![31 - Господи, какое горячее нападение!] – отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.
Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.
– Avant tout dites moi, comment vous allez, ch?re amie?[32 - Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг.] Успокойте меня, – сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.
– Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? – сказала Анна Павловна. – Вы весь вечер у меня, надеюсь?
– А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, – сказал князь. – Дочь заедет за мной и повезет меня.
– Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces f?tes et tous ces feux d'artifice commencent ? devenir insipides[33 - Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.].
– Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, – сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.
– Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on dеcidе par rapport ? la dеp?che de Novosilzoff? Vous savez tout[34 - Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы всё знаете.].
– Как вам сказать? – сказал князь холодным, скучающим тоном. – Qu'a-t-on dеcidе? On a dеcidе que Buonaparte a br?lе ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de br?ler les notres[35 - Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.].
Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.
Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.
В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.
– Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него… И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralitе prussienne, ce n'est qu'un pi?ge[36 - Этот пресловутый нейтралитет Пруссии – только западня.]. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. – Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.
В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай с невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами» (ч. 4, гл. VII). Вглядимся в эту жанровую сцену. Дядюшка – внешне почти вылитый господин Ноздрев из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: «Вошедши во двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей, муругих, черных с подпалинами, полно-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собак правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили своим лапы Ноздреву на плечи. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, – хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку – сука, точно, была слепая» (т. 1, гл. 4).
Собаки дядюшки Ростовых, правда, не ведут себя так панибратски с гостями, как ноздревские с Чичиковым; но зато у Ноздрева на диване не лежат. Любимая собака дядюшки Ростовых, кобель Ругай, почти тезка гоголевскому Обругаю.
Однако сходство двух сцен – поверхностное. У Гоголя смешавшиеся в кучу собаки и люди – свидетельство «оскотинивания», духовного падения человека, у Толстого – это симпатичная черта патриархального поместного быта, и только.
Особенно выразителен как вызов либеральным воззрениям в «Войне и мире» образ Николая Ростова – помещика.
«Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно именье, а не какая-нибудь отдельная часть его. В именье же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, посредством которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг – то есть работник-мужик.
И только тогда, когда он понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты» (Эпилог, ч. 1, гл. II).
Николай Ростов – ярый «антиреформатор» в ведении хозяйства. Его взгляды на сей счет (справедливость которых доказана на практике) – разительный контраст и нововведениям Онегина, заменившего «ярем барщины старинной» «оброком легким», и бесплодным реформам Николая Петровича Кирсанова из тургеневских «Отцов и детей».
На словах Ростов не любит русского мужика: «Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: “С нашим русским народом”, – и воображал себе, что он терпеть не может мужика.
Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты».
Эта внешняя нелюбовь при настоящей, глубинной, – как они непохожи на показное «мужиколюбие» Павла Петровича Кирсанова из «Отцов и детей», который даже держит на столике серебряную пепельницу в форме лаптя.
Ни Пушкин, приветствовавший нововведения Онегина («И раб судьбу благословил»), ни Тургенев не писали о любви мужиков к господам. Толстой решился и на это: «И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, – все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. “Хозяин был… Наперед мужицкое, а потом свое. Ну, и потачки не давал. Одно слово – хозяин!”» (Эпилог, ч. 1, гл. VII).
Он «простил» Николаю Ростову даже то, что либеральная мысль и словесность почитали неискупимым, неизбывным грехом, тягчайшим преступлением, – рукоприкладство по отношению к мужикам (у Толстого это управляющий из мужиков).
«Одно, что мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, это была его вспыльчивость в соединении с старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предосудительного, но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился.
Однажды летом из Богучарова был вызван староста <…>, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях. Николай вышел к нему на крыльцо, и с первых ответов старосты в сенях послышались крики и удары. <…>
Эдакой наглый мерзавец, – говорил он, горячась при одном воспоминании. – Ну, сказал бы он мне, что был пьян, не видал. Да что с тобой, Мари? – вдруг спросил он» (Эпилог, ч. 1, гл. VIII).
Жена упрекает мужа в таких поступках. Не одобряет, конечно, и Толстой. Но Николай не всегда может сдержать себя, и автор не судит строго за это своего героя: «С тех пор, как только при объяснениях со старостами и приказчиками кровь бросалась ему в лицо и руки начинали сжиматься в кулаками, Николай вертел разбитый перстень на пальце и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раза два в год он забывался и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь это было в последний раз.
– Мари, ты, верно, меня презираешь? – говорил он ей. – Я стою этого.
– Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться, – с грустью говорила графиня Марья, стараясь утешить мужа» (Эпилог, ч. 1, гл. VIII).
Конечно, «Война и мир» – это отнюдь не просто запоздалая апология «старого барства». Но понять роман Толстого без учета противостояния автора влиятельной «либеральной» традиции в отечественной словесности невозможно. Иначе происходит неизменное упрощение смысла этого произведения и позиции его создателя.
Противопоставляя себя – демонстративно, почти эпатирующим образом – радикальному демократическому движению, Толстой, тем не менее, оказывался не столь уж далек от нигилизма. Отрицание официальной истории созвучно установке написанной и изданной в одно время с «Войной и миром» «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отрицание условности, знаковости (восприятие оперы остранняющим взглядом «естественной» героини Наташи Ростовой, именование знамен тряпками на палках и многое прочее[16 - У Толстого к условностям, фантомным ценностям цивилизации отнесена и медицина (Пьер после лишений плена выздоровел, поскольку не лечился у докторов). С этим нигилисты-поклонники естественных наук, конечно бы, не согласились.]). Наконец, даже понимание призвания и воспевание женщины только как жены и матери (Наташа в эпилоге) вовсе не чуждо радикальной мысли. Представления Толстого здесь созвучны идеям популярного в нигилистических кругах Ж. Прудона, совсем не борца за эмансипацию женщин, высказанным в посмертно изданной книге «Порнократия, или Женщины в настоящее время»[17 - Прудон Ж. Что такое собственность? М., 1998. С. 270–275.].
«Благодаря <…> своеобразному своему положению в современности Толстой примкнул одной стороной своего романа к “обличительному” направлению и был истолкован как “нигилист”, как представитель левой “нетовщины”, а другой – оказался среди “крепостников”, среди представителей “старого барства”»[18 - Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 2.].
«Рецензии на “Войну и мир” похожи сейчас на хулиганство. Никто (кроме Страхова) ничего не понял», – писала о восприятии романа в критике Л.Я. Гинзбург[19 - Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 114.]. Исследовательница почти не преувеличивала. Книга имела громадный успех, но рецензенты не могли, а, как правило, и не желали (по причинам идеологическим) его объяснить. Отмечая успех романа, литератор и поэт радикального направления Д.Д. Минаев добавлял: «Пусть другие радуются, коли есть охота, но в сущности радоваться тут решительно нечему»[20 - Дело. 1868. № 4. Отд. II. С. 202.]. Д. И. Писарев, высоко оценивая талант писателя, судит неумолимым судом его героев: для критика автор «Войны и мира» только певец «старого барства», а ценность романа в том, что правда жизни победила авторскую идею: «старое барство» бесплодно и достойно лишь гримасы отвращения. М.К. Цебрикова перевела разговор на вопрос о женской эмансипации, с сожалением отметив, что Наташа не дотягивает до девиц-эмансипе. Н.В. Шелгунов изобличал ретроградные историософские взгляды Толстого: «“Война и мир”, в сущности, – славянофильский роман, в котором напутаны правда с ложью, наука с невежеством, благо со злом, прогресс с отсталостью. Это какая-то смесь немногого хорошего со многим дурным, возводящая графа Пьера в руководящий идеал, долженствующий обновить и просветить Россию. Только будет ли лучше, если судьбами России будут управлять такие умные люди?»[21 - Война из-за «Войны и мира». С. 352. Здесь же перепечатаны статьи Д. И. Писарева и М. К. Цебриковой.]
В. В. Берви-Флеровский, писавший под псевдонимом С. Навалихин, утверждал: «Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне». Князя Андрея критик аттестует как «цивилизованного бушмена» (у Болконского «тряпичный ум»), а Николая Ростова – как «одного из “изящных бушменов”»[22 - Дело. 1868. № 6. Отд. II. С. 25–26, 12, 18.].
В радикальной сатирической «Искре» печатались рисунки-карикатуры на героев романа с подписями гекзаметром – стихом античных героических поэм. Например, такая: «Гости уж все собрались – и на блюде горячем / Виконт де Мортмарт был предложен. / Не бойтесь, детки, кушать его ведь не будут. / Это сравненье – в эстетической сказке своей эстетике дань отдаю я»[23 - Ср. воспроизведение пародийных иллюстраций и рисунков в кн.: Шкловский В. Матерьял стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». Вклейка между с. 208 и 209. Пародируется сравнение представляемого Анной Павловной Шерер гостя-виконта с блюдом, которым сервируют стол (начало романа).Сестра С.А. Толстой, Т. А. Кузминская, передает (со слов супруга) желчные замечания М.Е. Салтыкова-Щедрина: «“Эти военные сцены – одна ложь и суета. Багратион и Кутузов – кукольные генералы. А вообще – болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше, так называемое, “высшее общество” граф лихо прохватил.”». – Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1976. С. 338.Отзывы либерала Тургенева были неоднозначными: признавая мастерство Толстого, он сетовал в письмах на чрезмерную детализацию переживаний героев и на любовь к «мелочам» – в жестах, в манере поведения, в одежде персонажей (статья «По поводу “Отцов и детей”» [1869], письмо П. Борисову [1870]).].
Голоса из правого лагеря были также, по большей части, враждебными: «в романе собраны только все скандальные анекдоты военного времени той эпохи»[24 - Норов А.С. Война и мир (1805–1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям совпременников. СПб., 1868. С. 2.]; «[э]то уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм. Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь и настоящего отрицанием событий минувшего и отрешением народных личностей <…> В упомянутой книге трудно решить и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман, и обратно. Это переплетение, или, скорее, перепутывание истории и романа, без сомнения, вредит первой и окончательно, перед судом здравой и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоинства последнего, т. е. романа[25 - Вяземский П. А. Воспоминания о 1812 годе // Русский архив. 1869. № 1. С. 186–187.]».
И Норов, и Вяземский уличали автора «Войны и мира» в сознательном искажении истории, в клевете на нее.
Критики, отрешившиеся от идеологического приговора и выделившие основные художественные особенности романа (П. В. Анненков, Н.И. Соловьев), оценили их скорее как недостатки, чем как достоинства: ведь «Война и мир» разительно не соответствовала канону исторического романа[26 - Статьи переизданы в книге «Война из-за “Войны и мира”».].
Цикл статей Н.Н. Страхова действительно отчетливо выделяется на этом фоне[27 - Обзор откликов критиков на «Войну и мир» см. в статье: Сухих И. Н. Война и мир вокруг «Войны и мира» / / Война из-за «Войны и мира». С. 32.].
Лишь со временем были по-настоящему осознаны грандиозность и величие этой в высшей степени оригинальной толстовской книги.
А. М. Ранчин
Том первый
Часть первая
I
– Eh bien, mon prince. G?nes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous previens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocitеs de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) – je ne voue connais plus, vous n'?tes plus mon ami, vous n'?tes plus мой верный раб, comme vous dites[28 - Ну, князь, Генуя и Лукка – поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), – я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите (фр.) <Переводы, за исключением специально отмеченных, принадлежат Л.Н. Толстому; переводы с французского языка не оговариваются.>.]. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur[29 - Я вижу, что я вас пугаю.], садитесь и рассказывайте.
Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:
“Si vous n'avez rien de mieux ? faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirеe chez une pauvre malade no vous effray pas trop, je serai charmеe de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer’[30 - Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. Ан на Шерер.].
– Dieu, quelle virulente sortie![31 - Господи, какое горячее нападение!] – отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.
Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.
– Avant tout dites moi, comment vous allez, ch?re amie?[32 - Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг.] Успокойте меня, – сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.
– Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? – сказала Анна Павловна. – Вы весь вечер у меня, надеюсь?
– А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, – сказал князь. – Дочь заедет за мной и повезет меня.
– Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces f?tes et tous ces feux d'artifice commencent ? devenir insipides[33 - Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.].
– Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, – сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.
– Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on dеcidе par rapport ? la dеp?che de Novosilzoff? Vous savez tout[34 - Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы всё знаете.].
– Как вам сказать? – сказал князь холодным, скучающим тоном. – Qu'a-t-on dеcidе? On a dеcidе que Buonaparte a br?lе ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de br?ler les notres[35 - Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.].
Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.
Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.
В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.
– Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него… И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralitе prussienne, ce n'est qu'un pi?ge[36 - Этот пресловутый нейтралитет Пруссии – только западня.]. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. – Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.