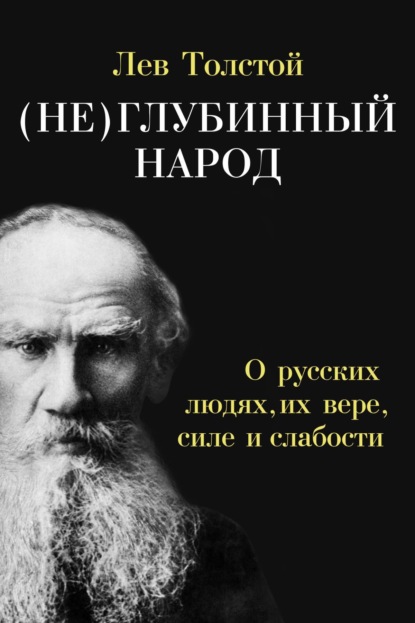По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
(Не)глубинный народ. О русских людях, их вере, силе и слабости
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На другой день прихожу к знакомым мне мужикам. Спрашиваю, приходил ли мужик. – Не приходил. И так несколько человек обманули меня. Обманывали меня и такие, которые говорили, что им нужно только денег на билет, чтобы уехать домой, и через неделю попадались мне опять на улице. Многих из них я признал уже, и они признали меня и иногда, забыв меня, повторяли мне тот же обман, а иногда уходили, завидев меня. Так я увидал, что в числе и этого разряда есть много обманщиков; но и обманщики эти были очень жалки; всё это были полураздетые, бедные, худые, болезненные люди; это были те самые, которые действительно замерзают или вешаются, как мы знаем по газетам.
II
Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: «О! это еще ничего – всё то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую “золотую роту”. Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их много стало. Шутник был прав, но он бы был еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч. Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету, всегда говорили это с некоторым удовольствием, как бы гордясь передо мной тем, что они знают это. Я помню, когда я был в Лондоне, там старожилы тоже как будто хвастались, говоря про лондонскую нищету. Вот, мол, как у нас.
И мне хотелось видеть эту всю нищету, про которую мне говорили. Несколько раз я направлялся в сторону Хитрова рынка, но всякий раз мне становилось жутко и совестно. «Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?» – говорил один голос. «Нет, если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри и на это», – говорил другой голос.
И вот в декабре месяце третьего года, в морозный и ветряный день, я пошел к этому центру городской нищеты, к Хитрову рынку. Это было в будни, часу в четвертом. Уже идя по Солянке, я стал замечать больше и больше людей в странных, не своих одеждах и в еще более странной обуви, людей с особенным нездоровым цветом лица и, главное, с особенным общим им всем пренебрежением ко всему окружающему.
В самой странной, ни на что не похожей одежде человек шел совершенно свободно, очевидно, без всякой мысли о том, каким он может представляться другим людям. Все эти люди направлялись в одну сторону. Не спрашивая дороги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хитров рынок. На рынке такие же женщины в оборванных капотах, салопах, кофтах, сапогах и калошах и столь же свободные, несмотря на уродство своих одежд, старые и молодые, сидели, торговали чем-то, ходили и ругались. Народу на рынке было мало. Очевидно, рынок отошел, и большинство людей шло в гору мимо рынка и через рынок, всё в одну сторону. Я пошел за ними. Чем дальше я шел, тем больше сходилось всё таких же людей по одной дороге. Пройдя рынок и идя вверх по улице, я догнал двух женщин: одна старая, другая молодая. Обе в чем-то оборванном и сером. Они шли и говорили о каком-то деле.
После каждого нужного слова произносилось одно или два ненужных, самых неприличных слова. Они были не пьяны, чем-то были озабочены, и шедшие навстречу, и сзади и спереди, мужчины не обращали на эту их странную для меня речь никакого внимания. В этих местах, видно, всегда так говорили. Налево были частные ночлежные дома, и некоторые завернули туда, другие шли дальше. Взойдя на гору, мы подошли к угловому большому дому. Большинство людей, шедших со мною, остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома стояли и сидели на тротуаре и на снегу улицы всё такие же люди. С правой стороны входной двери – женщины, с левой – мужчины. Я прошел мимо женщин, прошел мимо мужчин (всех было несколько сот) и остановился там, где кончалась их вереница. Дом, у которого дожидались эти люди, был Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были ночлежники, ожидающие впуска. В 5 часов вечера отворяют и впускают. Сюда-то шли почти все те люди, которых я обгонял.
Я остановился там, где кончалась вереница мужчин. Ближайшие ко мне люди стали смотреть на меня и притягивали меня своими взглядами. Остатки одежд, покрывавших эти тела, были очень разнообразны. Но выражение всех взглядов этих людей, направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты – человек из другого мира – остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучать нас, или ты то, что не бывает и не может быть, – человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос. Взглянет, встретится глазами и отвернется. Мне хотелось заговорить с кем-нибудь, и я долго не решался. Но пока мы молчали, уже взгляды наши сблизили нас. Как ни разделила нас жизнь, после двух, трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди, и перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил; другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на хлеб и подати. «Работы, – говорит, – нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и мотаюсь теперь; верьте Богу, – не ел два дня», – сказал он робко с попыткой улыбки. Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы. Он рассказал, что днем он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на место жительства. «Говорят, в четверг будет обход, – сказал он, – тогда заберут. Только бы до четверга добиться». (Острог и этап представляются для него обетованной землей.)
Пока он рассказывал, человека три из толпы подтвердили его слова и сказали, что они точно в таком же положении.
Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубахе на верхней части тела, прорванной на плечах, и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне чрез толпу. Он не переставая дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. Я предложил и ему сбитню; он также, взяв стакан, грел об него руки, и только что начал что-то говорить, как его оттеснил большой, черный, горбоносый, в рубахе ситцевой и жилете, без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой и в лаптях, пьяный. Потом маленький, с опухшим лицом и с слезящимися глазами в коричневом нанковом пиджаке и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга от дрожи. Он не мог удержать стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой урод в лохмотьях и опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, потом что-то странное, безносое, – всё это голодное и холодное, умоляющее и покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню. Сбитень выпили. Один попросил денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось замешательство, давка. Дворник соседнего дома крикнул на толпу, чтоб очистили тротуар против его дома, и толпа покорно исполнила его приказание. Явились распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство – хотели вывести из давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жалче и измученнее и униженнее другого. Я роздал всё, что у меня было. Денег у меня было немного: что-то около 20 рублей, и я с толпою вместе вошел в ночлежный дом.
Ночлежный дом огромный. Он состоит из четырех отделений. В верхних этажах – мужские, в нижних – женские. Сначала я вошел в женское; большая комната вся занята койками, похожими на койки 3-го класса железных дорог. Койки расположены в два этажа – наверху и внизу. Женщины, странные, оборванные, в одних платьях, старые и молодые, входили и занимали места, которые внизу, которые наверху. Некоторые старые крестились и поминали того, кто устроил этот приют, некоторые смеялись и ругались. Я прошел наверх. Там также размещались мужчины; между ними я увидал одного из тех, которым я давал деньги. Увидав его, мне вдруг стало ужасно стыдно, и я поспешил уйти. И с чувством совершенного преступления я вышел из этого дома и пошел домой. Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках.
Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем.
Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили челов еку голову гильотиной… В тот момент… я ахнул и понял, что… убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем.
Так и теперь, при виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, – есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его. Для меня разница этих двух впечатлений была только в том, что там всё, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около гильотины и распоряжавшимся убийством, что они делают зло, и всеми средствами стараться помешать. Но и делая это, я мог вперед знать, что этот мой поступок не помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбитень и те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя, и всё, что у меня есть дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у меня будет излишняя пища, а у другого совсем не будет, у меня будут две одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной.
III
В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель – городской житель – начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже… стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.
Я должен быть согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.
И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого.
Помню, что как мне сказалось в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во мне, но к этому чувству очень скоро подмешалось другое и заслонило его.
Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать; но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать ее людям.
Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастия останутся такие же.
И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого.
И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Всё дело в том, что я очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать, однако, что и обдумывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я всё время чувствовал, что это не то: но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в Москве, но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной, и ничтожной в сравнении с тем, что я хотел сделать. Я и придумал следующее: вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности и, кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их нужды и помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех людей, которые займутся этим, составится постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождались; будет постоянно, в начале еще зарождения ее, уничтожать ее; будет исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в городе, и что всё это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах в театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у Ляпинского дома.
Составив себе этот план, я написал статью об этом и, прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видал в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал потом в статье; я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, с покойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же: как только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакать этой моей глупости.
– Ах, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо, – говорили мне. – Само собой разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам или сама думала это, но… у нас так вообще равнодушны, что едва ли можно рассчитывать на большой успех… Впрочем, я с своей стороны, разумеется, готов или готова содействовать.
Подобное этому говорили мне все. Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один сам не определил суммы, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивать: «так могу я рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, 25 рублей?», и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то, обыкновенно, торопятся дать деньги. На ложу Сарры Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных.
Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были бы во сто раз больше того, что выработают все эти дамы, – не говоря об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, переезд, свечи, чай, сахар, печенье хозяйке стоили в сто раз больше того, что здесь сработают. Я видел всё это и потому мог бы понять, что здесь-то я уж не найду сочувствия своему делу; но я приехал, чтобы сделать свое предложение, и, как ни тяжело мне это было, я сказал то, что хотел (я говорил почти всё то же, что написал в своей статье).
Из бывших тут людей одна особа предложила мне денег, сказав, что сама по бедным идти не чувствует себя в силах по своей чувствительности, но денег даст; сколько денег и когда она доставит их, она не сказала. Другая особа и один молодой человек предложили свои услуги хождения по бедным; но я не воспользовался их предложением. Главное же лицо, к которому я обращался, сказало мне, что нельзя будет сделать многого, потому что средств мало. Средств же мало потому, что богатые люди Москвы все уже на счету и у всех выпрошено всё, что только можно, что уже всем этим благотворителям даны чины, медали и другие почести, что для успеха денежного нужно выпросить какие-нибудь новые почести от властей и что это одно действительное средство, но что это очень трудно.
Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жить в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно боялся. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.
Отдав в печать свою статью, я прочел ее по корректуре в Думе. Я прочел ее, краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушателям. На вопрос мой по окончании чтения о том, принимают ли руководители переписи предложение мое оставаться на своих местах, для того чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения; выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей одобряемой всеми мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, всё-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь: согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь! Такое было выражение их лиц; но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: «мы считаем себя нравственно обязанными это сделать». То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости.
Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно кроме себя.
В глубине души я продолжал чувствовать, что всё это не то, что из этого ничего не выйдет; но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня.
IV
Мне назначили для переписи, по моей просьбе, участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между Береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржанов дом, или Ржановская крепость. Дома эти принадлежали когда-то купцу Ржанову, теперь же принадлежат Зиминым. Я давно уже слышал про это место, как про притон самой страшной нищеты и разврата, и потому просил учредителей переписи назначить меня в этот участок.
Желание мое было исполнено.
Получив распоряжение Думы, я за несколько дней до переписи один пошел обходить свой участок. По плану, который мне дали, я тотчас же нашел Ржанову крепость.
Я зашел с Никольского переулка. Никольский переулок кончается с левой стороны мрачным домом без выходящих на эту сторону ворот; по виду этого дома я догадался, что это и есть Ржановская крепость.
Спускаясь под гору по Никольской улице, я поравнялся с мальчиками от 10 до 14 лет, в кофточках и пальтецах, катавшихся кто на ногах, кто на одном коньке под гору по обледеневшему стоку тротуара подле этого дома. Мальчики были оборванные и, как все городские мальчики, бойкие и смелые. Я остановился посмотреть на них. Из-за угла вышла с желтыми обвисшими щеками оборванная старуха. Она шла в гору к Смоленскому и страшно, как запаленная лошадь, хрипела при каждом шаге. Поравнявшись со мной, она остановилась, переводя хрипящее дыхание. Во всяком другом месте эта старуха попросила бы у меня денег, но здесь она только заговорила со мной.
– Вишь, – сказала она, указывая на катавшихся мальчиков, – только баловаться! Такие же ржановцы, как отцы, будут.
Один из мальчиков в пальто и картузе без козырька услыхал ее слова и остановился.
– Что ругаешься? – закричал он на старуху. – Сама ржановская козюлиха!
Я спросил у мальчика:
– А вы тут живете?
– Да, и она тут. Она голенищи украла! – крикнул мальчик и, подняв вперед ногу, покатился дальше.
Старуха разразилась неприличным матерным ругательством, прерываемым кашлем. С горы в это время, размахивая руками (в одной была связка с одним маленьким калачом и баранками), шел по середине улицы белый, как лунь, старик, весь в лохмотьях. Старик этот имел вид человека, только что подкрепившегося шкаликом. Он слышал, видно, брань старухи и взял ее сторону.
– Я вас, чертенята, у! – крикнул он на ребят, направляясь как будто на них, и, обогнув меня, взошел на тротуар.
Старик этот на Арбате поражает своею старостью, слабостью и нищетой. Здесь это был веселый работник, возвращающийся с дневного труда.
Я пошел за стариком. Он загнул за угол налево в Проточный переулок и, пройдя весь дом и ворота, скрылся в двери трактира.
На Проточный переулок выходят двое ворот и несколько дверей: трактира, кабака и нескольких съестных и других лавочек. Это – самая Ржанова крепость. Всё здесь серо, грязно, вонюче – и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходили, другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я обошел всё строение с Проточного переулка и Берегового проезда и, вернувшись, остановился у ворот одного из домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается там, в середине, но жутко было. Что я скажу, когда меня спросят, что мне нужно? Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал отвратительную вонь. Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же минуту услыхал налево от меня, наверху, на деревянной галерее, топот шагов бегущих людей, сначала по доскам галереи, а потом по ступеням лестницы. Прежде выбежала худая женщина с засученными рукавами, в слинявшем розовом платье и ботинках на босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе и очень широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину.
– Не уйдешь! – проговорил он смеясь.
II
Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: «О! это еще ничего – всё то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую “золотую роту”. Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк: так их много стало. Шутник был прав, но он бы был еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч. Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету, всегда говорили это с некоторым удовольствием, как бы гордясь передо мной тем, что они знают это. Я помню, когда я был в Лондоне, там старожилы тоже как будто хвастались, говоря про лондонскую нищету. Вот, мол, как у нас.
И мне хотелось видеть эту всю нищету, про которую мне говорили. Несколько раз я направлялся в сторону Хитрова рынка, но всякий раз мне становилось жутко и совестно. «Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?» – говорил один голос. «Нет, если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри и на это», – говорил другой голос.
И вот в декабре месяце третьего года, в морозный и ветряный день, я пошел к этому центру городской нищеты, к Хитрову рынку. Это было в будни, часу в четвертом. Уже идя по Солянке, я стал замечать больше и больше людей в странных, не своих одеждах и в еще более странной обуви, людей с особенным нездоровым цветом лица и, главное, с особенным общим им всем пренебрежением ко всему окружающему.
В самой странной, ни на что не похожей одежде человек шел совершенно свободно, очевидно, без всякой мысли о том, каким он может представляться другим людям. Все эти люди направлялись в одну сторону. Не спрашивая дороги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хитров рынок. На рынке такие же женщины в оборванных капотах, салопах, кофтах, сапогах и калошах и столь же свободные, несмотря на уродство своих одежд, старые и молодые, сидели, торговали чем-то, ходили и ругались. Народу на рынке было мало. Очевидно, рынок отошел, и большинство людей шло в гору мимо рынка и через рынок, всё в одну сторону. Я пошел за ними. Чем дальше я шел, тем больше сходилось всё таких же людей по одной дороге. Пройдя рынок и идя вверх по улице, я догнал двух женщин: одна старая, другая молодая. Обе в чем-то оборванном и сером. Они шли и говорили о каком-то деле.
После каждого нужного слова произносилось одно или два ненужных, самых неприличных слова. Они были не пьяны, чем-то были озабочены, и шедшие навстречу, и сзади и спереди, мужчины не обращали на эту их странную для меня речь никакого внимания. В этих местах, видно, всегда так говорили. Налево были частные ночлежные дома, и некоторые завернули туда, другие шли дальше. Взойдя на гору, мы подошли к угловому большому дому. Большинство людей, шедших со мною, остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома стояли и сидели на тротуаре и на снегу улицы всё такие же люди. С правой стороны входной двери – женщины, с левой – мужчины. Я прошел мимо женщин, прошел мимо мужчин (всех было несколько сот) и остановился там, где кончалась их вереница. Дом, у которого дожидались эти люди, был Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были ночлежники, ожидающие впуска. В 5 часов вечера отворяют и впускают. Сюда-то шли почти все те люди, которых я обгонял.
Я остановился там, где кончалась вереница мужчин. Ближайшие ко мне люди стали смотреть на меня и притягивали меня своими взглядами. Остатки одежд, покрывавших эти тела, были очень разнообразны. Но выражение всех взглядов этих людей, направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты – человек из другого мира – остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучать нас, или ты то, что не бывает и не может быть, – человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос. Взглянет, встретится глазами и отвернется. Мне хотелось заговорить с кем-нибудь, и я долго не решался. Но пока мы молчали, уже взгляды наши сблизили нас. Как ни разделила нас жизнь, после двух, трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди, и перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил; другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на хлеб и подати. «Работы, – говорит, – нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и мотаюсь теперь; верьте Богу, – не ел два дня», – сказал он робко с попыткой улыбки. Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы. Он рассказал, что днем он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на место жительства. «Говорят, в четверг будет обход, – сказал он, – тогда заберут. Только бы до четверга добиться». (Острог и этап представляются для него обетованной землей.)
Пока он рассказывал, человека три из толпы подтвердили его слова и сказали, что они точно в таком же положении.
Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубахе на верхней части тела, прорванной на плечах, и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне чрез толпу. Он не переставая дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. Я предложил и ему сбитню; он также, взяв стакан, грел об него руки, и только что начал что-то говорить, как его оттеснил большой, черный, горбоносый, в рубахе ситцевой и жилете, без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой и в лаптях, пьяный. Потом маленький, с опухшим лицом и с слезящимися глазами в коричневом нанковом пиджаке и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг о друга от дрожи. Он не мог удержать стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой урод в лохмотьях и опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, потом что-то странное, безносое, – всё это голодное и холодное, умоляющее и покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню. Сбитень выпили. Один попросил денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось замешательство, давка. Дворник соседнего дома крикнул на толпу, чтоб очистили тротуар против его дома, и толпа покорно исполнила его приказание. Явились распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство – хотели вывести из давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жалче и измученнее и униженнее другого. Я роздал всё, что у меня было. Денег у меня было немного: что-то около 20 рублей, и я с толпою вместе вошел в ночлежный дом.
Ночлежный дом огромный. Он состоит из четырех отделений. В верхних этажах – мужские, в нижних – женские. Сначала я вошел в женское; большая комната вся занята койками, похожими на койки 3-го класса железных дорог. Койки расположены в два этажа – наверху и внизу. Женщины, странные, оборванные, в одних платьях, старые и молодые, входили и занимали места, которые внизу, которые наверху. Некоторые старые крестились и поминали того, кто устроил этот приют, некоторые смеялись и ругались. Я прошел наверх. Там также размещались мужчины; между ними я увидал одного из тех, которым я давал деньги. Увидав его, мне вдруг стало ужасно стыдно, и я поспешил уйти. И с чувством совершенного преступления я вышел из этого дома и пошел домой. Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках.
Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем.
Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили челов еку голову гильотиной… В тот момент… я ахнул и понял, что… убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем.
Так и теперь, при виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, – есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его. Для меня разница этих двух впечатлений была только в том, что там всё, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около гильотины и распоряжавшимся убийством, что они делают зло, и всеми средствами стараться помешать. Но и делая это, я мог вперед знать, что этот мой поступок не помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбитень и те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя, и всё, что у меня есть дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у меня будет излишняя пища, а у другого совсем не будет, у меня будут две одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной.
III
В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель – городской житель – начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже… стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.
Я должен быть согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.
И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого.
Помню, что как мне сказалось в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во мне, но к этому чувству очень скоро подмешалось другое и заслонило его.
Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать; но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать ее людям.
Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастия останутся такие же.
И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого.
И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Всё дело в том, что я очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать, однако, что и обдумывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я всё время чувствовал, что это не то: но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в Москве, но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной, и ничтожной в сравнении с тем, что я хотел сделать. Я и придумал следующее: вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности и, кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их нужды и помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех людей, которые займутся этим, составится постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождались; будет постоянно, в начале еще зарождения ее, уничтожать ее; будет исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в городе, и что всё это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах в театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у Ляпинского дома.
Составив себе этот план, я написал статью об этом и, прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видал в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал потом в статье; я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, с покойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же: как только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакать этой моей глупости.
– Ах, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо, – говорили мне. – Само собой разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам или сама думала это, но… у нас так вообще равнодушны, что едва ли можно рассчитывать на большой успех… Впрочем, я с своей стороны, разумеется, готов или готова содействовать.
Подобное этому говорили мне все. Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один сам не определил суммы, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивать: «так могу я рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, 25 рублей?», и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то, обыкновенно, торопятся дать деньги. На ложу Сарры Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных.
Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были бы во сто раз больше того, что выработают все эти дамы, – не говоря об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, переезд, свечи, чай, сахар, печенье хозяйке стоили в сто раз больше того, что здесь сработают. Я видел всё это и потому мог бы понять, что здесь-то я уж не найду сочувствия своему делу; но я приехал, чтобы сделать свое предложение, и, как ни тяжело мне это было, я сказал то, что хотел (я говорил почти всё то же, что написал в своей статье).
Из бывших тут людей одна особа предложила мне денег, сказав, что сама по бедным идти не чувствует себя в силах по своей чувствительности, но денег даст; сколько денег и когда она доставит их, она не сказала. Другая особа и один молодой человек предложили свои услуги хождения по бедным; но я не воспользовался их предложением. Главное же лицо, к которому я обращался, сказало мне, что нельзя будет сделать многого, потому что средств мало. Средств же мало потому, что богатые люди Москвы все уже на счету и у всех выпрошено всё, что только можно, что уже всем этим благотворителям даны чины, медали и другие почести, что для успеха денежного нужно выпросить какие-нибудь новые почести от властей и что это одно действительное средство, но что это очень трудно.
Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жить в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно боялся. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.
Отдав в печать свою статью, я прочел ее по корректуре в Думе. Я прочел ее, краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушателям. На вопрос мой по окончании чтения о том, принимают ли руководители переписи предложение мое оставаться на своих местах, для того чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения; выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей одобряемой всеми мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, всё-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь: согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь! Такое было выражение их лиц; но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: «мы считаем себя нравственно обязанными это сделать». То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости.
Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно кроме себя.
В глубине души я продолжал чувствовать, что всё это не то, что из этого ничего не выйдет; но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня.
IV
Мне назначили для переписи, по моей просьбе, участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между Береговым проездом и Никольским переулком. В этом участке находятся дома, называемые вообще Ржанов дом, или Ржановская крепость. Дома эти принадлежали когда-то купцу Ржанову, теперь же принадлежат Зиминым. Я давно уже слышал про это место, как про притон самой страшной нищеты и разврата, и потому просил учредителей переписи назначить меня в этот участок.
Желание мое было исполнено.
Получив распоряжение Думы, я за несколько дней до переписи один пошел обходить свой участок. По плану, который мне дали, я тотчас же нашел Ржанову крепость.
Я зашел с Никольского переулка. Никольский переулок кончается с левой стороны мрачным домом без выходящих на эту сторону ворот; по виду этого дома я догадался, что это и есть Ржановская крепость.
Спускаясь под гору по Никольской улице, я поравнялся с мальчиками от 10 до 14 лет, в кофточках и пальтецах, катавшихся кто на ногах, кто на одном коньке под гору по обледеневшему стоку тротуара подле этого дома. Мальчики были оборванные и, как все городские мальчики, бойкие и смелые. Я остановился посмотреть на них. Из-за угла вышла с желтыми обвисшими щеками оборванная старуха. Она шла в гору к Смоленскому и страшно, как запаленная лошадь, хрипела при каждом шаге. Поравнявшись со мной, она остановилась, переводя хрипящее дыхание. Во всяком другом месте эта старуха попросила бы у меня денег, но здесь она только заговорила со мной.
– Вишь, – сказала она, указывая на катавшихся мальчиков, – только баловаться! Такие же ржановцы, как отцы, будут.
Один из мальчиков в пальто и картузе без козырька услыхал ее слова и остановился.
– Что ругаешься? – закричал он на старуху. – Сама ржановская козюлиха!
Я спросил у мальчика:
– А вы тут живете?
– Да, и она тут. Она голенищи украла! – крикнул мальчик и, подняв вперед ногу, покатился дальше.
Старуха разразилась неприличным матерным ругательством, прерываемым кашлем. С горы в это время, размахивая руками (в одной была связка с одним маленьким калачом и баранками), шел по середине улицы белый, как лунь, старик, весь в лохмотьях. Старик этот имел вид человека, только что подкрепившегося шкаликом. Он слышал, видно, брань старухи и взял ее сторону.
– Я вас, чертенята, у! – крикнул он на ребят, направляясь как будто на них, и, обогнув меня, взошел на тротуар.
Старик этот на Арбате поражает своею старостью, слабостью и нищетой. Здесь это был веселый работник, возвращающийся с дневного труда.
Я пошел за стариком. Он загнул за угол налево в Проточный переулок и, пройдя весь дом и ворота, скрылся в двери трактира.
На Проточный переулок выходят двое ворот и несколько дверей: трактира, кабака и нескольких съестных и других лавочек. Это – самая Ржанова крепость. Всё здесь серо, грязно, вонюче – и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходили, другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я обошел всё строение с Проточного переулка и Берегового проезда и, вернувшись, остановился у ворот одного из домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается там, в середине, но жутко было. Что я скажу, когда меня спросят, что мне нужно? Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал отвратительную вонь. Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же минуту услыхал налево от меня, наверху, на деревянной галерее, топот шагов бегущих людей, сначала по доскам галереи, а потом по ступеням лестницы. Прежде выбежала худая женщина с засученными рукавами, в слинявшем розовом платье и ботинках на босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе и очень широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину.
– Не уйдешь! – проговорил он смеясь.