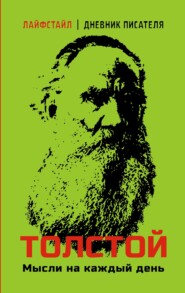По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 1. Детство
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими, и что пора нам серьезно учиться.
– Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, сказал он. – Вы будете жить у бабушки, а maman с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.
Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако, новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.
– Так вот что предвещал мне мой сон! подумал я: – дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже.
Мне очень, очень жалко стало матушку и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.
«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет: это славно! думал я. – Однако, жалко Карла Иваныча. Его верно отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта.... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»
Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.
Сказав с Карлом Иванычем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем, чтобы на прощаньи выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.
По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей, на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца – Милка.
– Милочка, говорил я, лаская ее и цалуя в морду: – мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.
Я расчувствовался и заплакал.
ГЛАВА IV. КЛАССЫ.
Карл Иваныч был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте: где один говорит: Wo kommen sie her?[10 - [Откуда вы идете?]] а другой отвечает: ich komme vom Kaffe-Hause,[11 - [я иду изъ кафе,]] я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: Haben sie die Zeitung nicht gelesen?[12 - [Вы не читали газеты?]] Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.
Карл Иваныч рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощенья, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.
Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.
– Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? сказал Карл Иваныч, входя в комнату.
– Как же-с, слышал.
Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иваныч сказал: «сиди, Николай!» и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.
– Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? говорил Карл Иваныч с чувством.
Николай, сидя у окна, за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.
– Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, Николай, продолжал Карл Иваныч, поднимая глаза и табакерку к потолку: – что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да: тогда я был добрый, милый Карл Иваныч, тогда я был нужен; а теперь, прибавил он, иронически улыбаясь: – теперь дети большие стали: им надо серьезно учиться. Точно они здесь не учатся, Николай?
– Как же еще учиться, кажется, сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы.
– Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? – Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, сказал он, прикладывая руку к груди: – да чт? она?… ее воля в этом доме все равно, чт? вот это; при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи.– Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал ненужен: оттого, что я не льщу и не потакаю во всем, как иные люди. Я привык всегда и перед всеми говорить правду, сказал он гордо. – Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба.... не так ли, Николай?
Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, – но ничего не сказал.
Много и долго говорил в этом духе Карл Иваныч: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Sch?nheit и т. д. и т. д.
Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.
Вернувшись в классную, Карл Иваныч велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда всё было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von al-len Lei-den-schaf-ten die grau-samste ist.... haben sie geschrieben?»[13 - [Из всех пороков самый тяжкий.... написали?]] Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой: «die grausamste ist die Un-dank-bar-keit.... Ein grosses U.»[14 - [самый тяжкий есть Неблагодарность… Большое Н.]] В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.
– Punctum,[15 - [Точка,]] сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.
Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.
Было без четверти час; но Карл Иваныч, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас: он то-и-дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька – двенадцатилетняя дочь Мими) идут из саду; но не видать Фоки – дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Иваныча, бежать вниз.
Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.
ГЛАВА V. ЮРОДИВЫЙ.
В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою, продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачек этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.
– Ага! попались! закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, – потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. – О-ох жалко! о-ох больно!… сердечные.... улетят, заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.
Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны, и желтое, уродливое лицо его принимало иногда такое откровеннопечальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.
Это был юродивый и странник Гриша.
Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.
Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и maman ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иваныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иваныч. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «bonjour, Mimi!», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.
Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она всё находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: parlez donc fran?ais,[16 - [говорите же по-французски,]] а тут-то, как на зло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом – только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно – mangez donc avec du pain, или comment ce que vous tenez votre fourchette?[17 - [ешьте же с хлебом, или как вы держите вилку?]] «И какое ей до нас дело! – подумаешь. Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его ненависть к иным людям.
– Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту, сказала Катенька шопотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.
– Хорошо; постараемся.
Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: жалко!… улетела.... улетит голубь в небо.... ох, на могиле камень!… и т. п.
Maman с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.
– Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи, сказала она, подавая отцу тарелку с супом.
– Чт? такое?
– Вели пожалуста запирать своих страшных собак; а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.
Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:
– Хотел, чтобы загрызли… Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей большак,[18 - Так он безразлично называл всех мужчин.] что бить? Бог простит.... дни не такие.
– Чт? это он говорит? спросил папа, пристально и строго рассматривая его. – Я ничего не понимаю.
– А я понимаю, отвечала maman: – он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил, и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его».