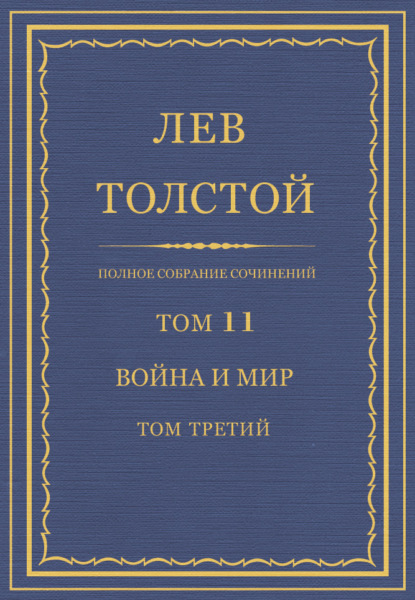По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 11. Война и мир. Том третий
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это было то первое время кампании, когда войска еще находились в исправности, почти равной смотровой, мирной деятельности, только с оттенком нарядной воинственности в одежде и с нравственным оттенком того веселья и предприимчивости, которые всегда сопутствуют началам кампаний.
Французский полковник с трудом удерживал зевоту, но был учтив и видимо понимал всё значение Балашева. Он провел его мимо своих солдат за цепь и сообщил, что желание его быть представленным императору будет вероятно тотчас же исполнено, так как императорская квартира, сколько он знает, находится недалеко.
Они проехали деревню Рыконты мимо французских гусарских коновязей, часовых и солдат, отдававших честь своему полковнику и с любопытством осматривавших русский мундир, и выехали на другую сторону села. По словам полковника, в двух километрах был начальник дивизии, который примет Балашева и проводит его по назначению.
Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени.
Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящею на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями, с черными, завитыми по плечи, волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпяченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашеву, блестя и развеваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и золотыми галунами.
Балашев уже был на расстоянии двух лошадей от скачущего ему навстречу с торжественно-театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал: «Le roi de Naples».[10 - Король неаполитанский.] Действительно это был Мюрат, называемый теперь Неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был Неаполитанский король, но его называли так, и он сам был убежден в этом, и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в том, что он действительно Неаполитанский король, что когда, накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женою по улицам, несколько итальянцев прокричали ему: «Viva il re!»[11 - Да здравствует король!] он с грустною улыбкой повернулся к супруге и сказал: «Les malheureux, ils ne savent pas que je les quitte demain!»[12 - Несчастные, они не знают, что я их завтра покидаю!]
Но несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был Неаполитанский король, и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, в последнее время, после того как ему велено было опять поступить на службу и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший шурин сказал ему: «je vous ai fait Roi pour rеgner ? ma mani?re, mais pas ? la v?tre»[13 - я вас сделал королем для того, чтобы царствовать не по-своему, а по-моему]– он весело принялся за знакомое ему дело и, как разъевшийся, но не зажиревший конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши.
Увидав русского генерала, он по-королевски, торжественно, откинул назад голову с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал его величеству значение Балашева, фамилию которого он не мог выговорить.
– De Bal-machevе! – сказал король (своею решительностью превозмогая трудность, представлявшуюся полковнику) charmе de faire votre connaissance, gеnеral,[14 - [Бальмашев] очень приятно познакомиться с вами, генерал,] – прибавил он с королевски-милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, всё королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашева.
– Eh bien, gеnеral, tout est ? la guerre, ? ce qu’il para?t,[15 - Ну, что ж, генерал, дело, кажется идет к войне,] – сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить.
– Sire, – отвечал Балашев, – l’Empereur mon ma?tre ne dеsire point la guerre, et comme Votre Majestе le voit,[16 - Государь император русский не желает ее, как ваше величество изволите видеть,] – говорил Балашев, во всех падежах употребляя Votre Majestе,[17 - ваше величество,] с неизбежною аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новости.
Лицо Мюрата сияло глупым довольством в то время, как он слушал Monsieur de Balachoff. Но royautе oblige:[18 - королевское звание имеет свои обязанности:] он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах, как король и союзник. Он слез с лошади, и взяв под руку Балашева и отойдя на несколько шагов от почтительно-дожидавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том, что император Наполеон оскорблен требованиями вывода войск из Пруссии, в особенности тогда, когда это требование сделалось всем известно и когда этим оскорблено достоинство Франции. Балашев сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что… Мюрат перебил его:
– Так вы считаете зачинщиком не императора Александра? – сказал он неожиданно с добродушно-глупою улыбкой.
Балашев сказал, почему он действительно полагал, что начинатель войны был Наполеон.
– Eh, mon cher gеnеral, – опять перебил его Мюрат, – je dеsire de tout mon coeur que les Empereurs s’arrangent entre eux, et que la guerre commencеe malgrе moi se termine le plus t?t possible,[19 - Ах, любезный генерал, я желаю от всей души, чтоб императоры покончили дело между собой и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее,] – сказал он тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми друзьями, несмотря на ссору между господами. И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье, и о воспоминаниях веселой забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом вдруг, как будто вспомнив о своем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации и, помахивая правою рукой, сказал: – Je ne vous retiens plus, gеnеral; je souhaite le succ?s de votre mission,[20 - Я вас не задерживаю более, генерал; желаю успеха вашему посольству,] – и развеваясь красною, шитою мантией и перьями, и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его.
Балашев поехал дальше, по словам Мюрата предполагая весьма скоро быть представленным самому Наполеону. Но вместо скорой встречи с Наполеоном, часовые пехотного корпуса Даву опять так же задержали его у следующего селения как и в передовой цепи, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его в деревню к маршалу Даву.
V.
Даву был Аракчеев императора Наполеона – Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью.
В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Только этою необходимостью можно объяснить то, как мог жестокий, лично выдергивавший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски-благородном и нежном характере Александра.
Балашев застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на боченке и занятого письменными работами (он поверял счеты). Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того чтоб иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. «Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю», говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашева. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и взглянув через очки на оживленное, под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом, лицо Балашева, не встал, не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся. Заметив на лице Балашева произведенное этим приемом неприятное впечатление, Даву поднял голову и холодно спросил, чт? ему нужно.
Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашев поспешил сообщить свое звание и значение. В противность ожидания его, Даву, выслушав Балашева, стал еще суровее и грубее.
– Где же ваш пакет? – сказал он.– Donnez-le moi, je l’enverrai ? l'Empereur.[21 - Дайте мне, его я пошлю императору.]
Балашев сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору.
– Приказания вашего императора исполняются в вашей армии, а здесь, – сказал Даву, – вы должны делать то, что? вам говорят.
И как будто для того, чтоб еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал адъютанта за дежурным.
Балашев вынул пакет, заключавший письмо государя, и положил его на стол (стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенной на два боченка). Даву взял пакет и прочел надпись.
– Вы совершенно правы оказывать и не оказывать мне уважение, – сказал Балашев. – Но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта его величества…
Даву взглянул на него молча, и некоторое волнение и смущение, выразившееся на лице Балашева, видимо доставили ему удовольствие.
– Вам будет оказано должное, – сказал он, и, положив конверт в карман, вышел из сарая.
Через минуту вошел адъютант маршала господин де-Кастре и провел Балашева в приготовленное для него помещение.
Балашев обедал в этот день в сарае с маршалом на той же доске на бочках.
На другой день Даву выехал рано утром, и, пригласив к себе Балашева, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажом, ежели они будут иметь на то приказания, и не разговаривать ни с кем кроме господина де-Кастре.
После четырехдневного уединения, скуки, сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, после нескольких переходов вместе с багажами маршала и с французскими войсками, занимавшими всю местность, Балашев привезен был в Вильну, занятую теперь французами, в ту же заставу, из которой он выехал четыре дня тому назад.
На другой день императорский камергер, monsieur de Turenne,[22 - Граф Тюрен,] приехал к Балашеву и передал ему желание императора Наполеона удостоить его аудиенции.
Четыре дня тому назад у того же дома, к которому подвели Балашева, стояли Преображенского полка часовые, теперь же стояли два французских гренадера в раскрытых на груди синих мундирах и в мохнатых шапках, конвой гусаров и улан и блестящая свита адъютантов, пажей и генералов, ожидавших выхода Наполеона вокруг стоявшей у крыльца верховой лошади и его мамелюка Рустана. Наполеон принимал Балашева в том самом доме в Вильне, из которого отправлял его Александр.
VI.
Несмотря на привычку Балашева к придворной торжественности, роскошь и пышность двора Наполеона поразили его.
Граф Тюрен ввел его в большую приемную, где дожидалось много генералов, камергеров и польских магнатов, из которых многих Балашев видал при дворе русского императора. Дюрок сказал, что император Наполеон примет русского генерала перед своею прогулкой.
После нескольких минут ожидания, дежурный камергер вышел в большую приемную и, учтиво поклонившись Балашеву, пригласил его итти за собой.
Балашев вошел в маленькую приемную, из которой одна дверь вела в кабинет, в тот самый кабинет, из которого отправлял его русский император. Балашев простоял минуты две ожидая. За дверью послышались поспешные шаги. Быстро отворились обе половинки двери, всё затихло, и из кабинета зазвучали другие твердые, решительные шаги: это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивавших жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. Короткие волоса его очевидно только что были причесаны, но одна прядь волос спускалась книзу над серединой широкого лба. Белая, пухлая шея его резко выступала из-за черного воротника мундира; от него пахло одеколоном. На моложавом, полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и величественного императорского приветствия.
Он вышел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая, короткая фигура с широкими, толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью, имела тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние люди. Кроме того видно было, что он в этот день находился в самом хорошем расположении духа.
Он кивнул головою, отвечая на низкий и почтительный поклон Балашева и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить, как человек, дорожащий всякою минутой своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что? нужно сказать.
– Здравствуйте, генерал! – сказал он. – Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть. – Он взглянул в лицо Балашева своими большими глазами и тотчас же стал смотреть мимо него.
Очевидно было, что его не интересовала нисколько личность Балашева. Видно было, что только то, что? происходило в его душе, имело интерес для него. Всё, что? было вне его, не имело для него значения, потому что всё в мире, как ему казалось, зависело только от его воли.
– Я не желаю и не желал войны, – сказал он, – но меня вынудили к ней. Я и теперь (он сказал это слово с ударением) готов принять все объяснения, которые вы можете дать мне. – И он ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства.
Судя по умеренно-спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашев был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры.
– Sire! L’Empereur, mon ma?tre,[23 - Ваше величество! Император, государь мой,] – начал Балашев давно приготовленную речь, когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла; но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены – оправьтесь», как будто сказал Наполеон, с чуть заметною улыбкой оглядывая мундир и шпагу Балашева. Балашев оправился и начал говорить. Он сказал, что император Александр не считает достаточною причиной для войны требование паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государя, что император Александр не желает войны, и что с Англией нет никаких сношений.
– Еще нет, – вставил Наполеон и, как будто боясь отдаться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим чувствовать Балашеву, что он может продолжать.
Высказав всё, что? ему было приказано, Балашев сказал, что император Александр желает мира, но не приступит к переговорам иначе как с тем условием, чтобы… Тут Балашев замялся: он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письме, но которые непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и которые приказал Балашеву передать Наполеону. Балашев помнил про эти слова: «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской», но какое-то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: с условием, чтобы французские войска отступили за Неман.
Наполеон заметил смущение Балашева при высказываньи последних слов: лицо его дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать. Не сходя с места, он голосом, более высоким и поспешным чем прежде, начал говорить. Во время последующей речи, Балашев, не раз опуская глаза, невольно наблюдал дрожанье икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос.