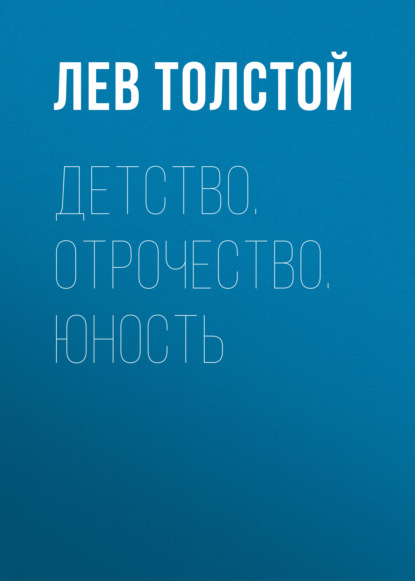По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детство. Отрочество. Юность
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к князю с довольно спокойным духом, как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я наследник; кроме того, я увидел у крыльца два экипажа и почувствовал прежнюю робость.
Мне казалось, что и старый швейцар, который отворил мне дверь, и лакей, который снял с меня шинель, и три дамы и два господина, которых я нашел в гостиной, и в особенности сам князь Иван Иваныч, который в штатском сюртуке сидел на диване, – мне казалось, что все смотрели на меня как на наследника, и вследствие этого недоброжелательно. Князь был со мной очень ласков, поцеловал меня, то есть приложил на секунду к моей щеке мягкие, сухие и холодные губы, расспрашивал о моих занятиях, планах, шутил со мной, спрашивал, пишу ли я всё стихи, как те, которые написал в именины бабушки, и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но чем больше он был ласков, тем больше мне все казалось, что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна мысль, что я его наследник. Он имел привычку, происходившую от фальшивых зубов, которых у него был полон рот, – сказав что-нибудь, поднимать верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту губу себе в ноздри, и когда он это делал теперь, мне все казалось, что он про себя говорил: «Мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю: наследник, наследник», и т. д.
Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Иваныча дедушкой, но теперь, в качестве наследника, у меня язык не ворочался сказать ему – «дедушка», а сказать – «ваше сиятельство», – как говорил один из господ, бывших тут, мне казалось унизительным, так что во все время разговора я старался никак не называть его. Но более всего меня смущала старая княжна, бывшая тоже наследницей князя и жившая в его доме. Во все время обеда, за которым я сидел рядом с княжной, я предполагал, что княжна не говорит со мной потому, что ненавидит меня за то, что я такой же наследник князя, как и она, и что князь не обращает внимания на нашу сторону стола потому, что мы – я и княжна – наследники, ему одинаково противны.
– Да, ты не поверишь, как мне было неприятно, – говорил я в тот же день вечером Дмитрию, желая похвастаться перед ним чувством отвращения к мысли о том, что я наследник (мне казалось, что это чувство очень хорошее), – как мне неприятно было нынче целых два часа пробыть у князя. Он прекрасный человек и был очень ласков ко мне, – говорил я, желая, между прочим, внушить своему другу, что все это я говорю не вследствие того, чтобы я чувствовал себя униженным перед князем, – но, – продолжал я, – мысль о том, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подличает перед ним, – ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добр и деликатен, а больно смотреть, как он мальтретирует эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения! Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем, – говорил я, – сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю и прошу его, чтобы он мне ничего не оставлял, и что только в этом случае я буду ездить к нему.
Дмитрий не расхохотался, когда я сказал ему это; напротив, он задумался и, помолчав несколько минут, сказал мне:
– Знаешь что? Ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, чтоб о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то, или ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше, то есть что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь это… но, одним словом, – прибавил он, чувствуя, что путается в своем рассуждении, – гораздо лучше вовсе и не предполагать этого.
Мой друг был совершенно прав; только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что? должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека, – и в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, – трудно, даже большей частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже вспоминаешь их и жалеешь о них, как о цветке, который – не удержался – сорвал нераспустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.
Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой день утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки и стамбулки, взял у него двадцать пять рублей ассигнациями на дорогу, которые он предложил мне, и потом очень долго оставался ему должен.
Глава XXII
Задушевный разговор с моим другом
Теперешний разговор наш происходил в фаэтоне на дороге в Кунцево. Дмитрий отсоветовал мне ехать утром с визитом к своей матери, а заехал за мной после обеда, чтоб увезти на весь вечер, и даже ночевать, на дачу, где жило его семейство. Только когда мы выехали из города и грязно-пестрые улицы и несносный оглушительный шум мостовой заменились просторным видом полей и мягким похряскиванием колес по пыльной дороге и весенний пахучий воздух и простор охватил меня со всех сторон, только тогда я немного опомнился от разнообразных новых впечатлений и сознания свободы, которые в эти два дня совершенно меня запутали. Дмитрий был общителен и кроток, не поправлял головой галстука, не подмигивал нервически и не зажмуривался; я был доволен теми благородными чувствами, которые ему высказал, полагая, что за них он совершенно простил мне мою постыдную историю с Колпиковым, не презирает меня за нее, и мы дружно разговорились о многом таком задушевном, которое не во всяких условиях говорится друг другу. Дмитрий рассказывал мне про свое семейство, которого я еще не знал, про мать, тетку, сестру и ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли рыженькой. Про мать он говорил с некоторой холодной и торжественной похвалой, как будто с целью предупредить всякое возражение по этому предмету; про тетку он отзывался с восторгом, но и с некоторой снисходительностью; про сестру он говорил очень мало и как будто бы стыдясь мне говорить о ней; но про рыженькую, которую по-настоящему звали Любовью Сергеевной и которая была пожилая девушка, жившая по каким-то семейным отношениям в доме Нехлюдовых, он говорил мне с одушевлением.
– Да, она удивительная девушка, – говорил он, стыдливо краснея, но тем с большей смелостью глядя мне в глаза, – она уж не молодая девушка, даже скорей старая, и совсем нехороша собой, но ведь что за глупость, бессмыслица – любить красоту! – я этого не могу понять, так это глупо (он говорил это, как будто только что открыл самую новую, необыкновенную истину), а такой души, сердца и правил… я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете (не знаю, от кого перенял Дмитрий привычку говорить, что все хорошее редко в нынешнем свете, но он любил повторять это выражение, и оно как-то шло к нему). Только я боюсь, – продолжал он спокойно, совершенно уже уничтожив своим рассуждением людей, которые имели глупость любить красоту, – я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро: она скромна и даже скрытна, не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которая, ты увидишь, прекрасная и умная женщина, – она знает Любовь Сергеевну уже несколько лет и не может и не хочет понять ее. Я даже вчера… я скажу тебе, отчего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтоб я съездил с ней к Ивану Яковлевичу, – ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно – замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну, и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор, и довольно горячий, – заключил он, сделав судорожное движение шеей, как будто в воспоминание о чувстве, которое он испытывал при этом споре.
– Ну, и как же ты думаешь? то есть как, когда ты воображаешь, что выйдет… или вы с нею говорите о том, что будет и чем кончится ваша любовь или дружба? – спросил я, желая отвлечь его от неприятного воспоминания.
– Ты спрашиваешь, думаю ли я жениться на ней? – спросил он меня, снова краснея, но смело, повернувшись, глядя мне в лицо.
«Что ж в самом деле, – подумал я, успокаивая себя, – это ничего, мы большие, два друга, едем в фаэтоне и рассуждаем о нашей будущей жизни. Всякому даже приятно бы было теперь со стороны послушать и посмотреть на нас».
– Отчего ж нет? – продолжал он после моего утвердительного ответа, – ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, – быть счастливым и хорошим, сколько возможно; и с ней, ежели только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, я с ней буду и счастливее и лучше, чем с первой красавицей в мире.
В таких разговорах мы и не заметили, как подъезжали к Кунцеву, – не заметили и того, что небо заволокло и собирался дождик. Солнце уже стояло невысоко, направо, над старыми деревьями кунцевского сада и половина блестящего красного круга была закрыта серой, слабо просвечивающей тучей; из другой половины брызгами вырывались раздробленные огненные лучи и поразительно ярко освещали старые деревья сада, неподвижно блестевшие своими зелеными густыми макушками еще на ясном, освещенном месте лазури неба. Блеск и свет этого края неба был резко противоположен лиловой тяжелой туче, которая залегла перед нами над молодым березняком, видневшимся на горизонте.
Немного правее виднелись уже из-за кустов и дерев разноцветные крыши дачных домиков, из которых некоторые отражали на себе блестящие лучи солнца, некоторые принимали на себя унылый характер другой стороны неба. Налево внизу синел неподвижный пруд, окруженный бледно-зелеными ракитами, которые темно отражались на его матовой, как бы выпуклой поверхности. За прудом, по полугорью, расстилалось паровое чернеющее поле, и прямая линия ярко-зеленой межи, пересекавшей его, уходила вдаль и упиралась в свинцовый грозовой горизонт. С обеих сторон мягкой дороги, по которой мерно покачивался фаэтон, резко зеленела сочная уклочившаяся рожь, уж кое-где начинавшая выбивать в трубку. В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью; зелень деревьев, листьев и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной и счастливой жизнью. Около дороги я заметил черноватую тропинку, которая вилась между темно-зеленой, уже больше чем на четверть поднявшейся рожью, и эта тропинка почему-то мне чрезвычайно живо напомнила деревню и, вследствие воспоминания о деревне, по какой-то странной связи мыслей, чрезвычайно живо напомнила мне Сонечку и то, что я влюблен в нее.
Несмотря на всю дружбу мою к Дмитрию и на удовольствие, которое доставляла мне его откровенность, мне не хотелось более ничего знать о его чувствах и намерениях в отношении Любовь Сергеевны, а непременно хотелось сообщить про свою любовь к Сонечке, которая мне казалась любовью гораздо высшего разбора. Но я почему-то не решился сказать ему прямо свои предположения о том, как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне, как у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой, и как я обрадуюсь, когда он с своей женой, Любовью Сергеевной, приедет ко мне в дорожном платье… а сказал вместо всего этого, указывая на заходящее солнце: «Дмитрий, посмотри, какая прелесть!»
Дмитрий ничего не сказал мне, видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал, обращая его внимание на природу, к которой он вообще был хладнокровен. Природа действовала на него совсем иначе, чем на меня; она действовала на него не столько красотой, сколько занимательностью; он любил ее более умом, чем чувством.
– Я очень счастлив, – сказал я ему вслед за этим, не обращая внимания на то, что он, видимо, был занят своими мыслями и совершенно равнодушен к тому, что я мог сказать ему. – Я ведь тебе говорил, помнишь, про одну барышню, в которую я был влюблен, бывши ребенком; я видел ее нынче, – продолжал я с увлечением, – и теперь я решительно влюблен в нее…
И я рассказал ему, несмотря на продолжавшееся на лице его выражение равнодушия, про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастии. И странно, что как только я рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувствовал, как чувство это стало уменьшаться.
Дождик захватил нас, когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче. Но он не замочил нас. Я знал, что шел дождик, только потому, что несколько капель упало мне на нос и на руку и что что-то зашлепало по молодым клейким листьям берез, которые, неподвижно повесив свои кудрявые ветви, казалось, с наслаждением, выражающимся тем сильным запахом, которым они наполняли аллею, принимали на себя эти чистые, прозрачные капли. Мы вышли из коляски, чтоб поскорее до дома пробежать садом. Но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой скорыми шагами шли с другой стороны. Дмитрий тут же представил меня своей матери, сестре, тетке и Любовь Сергеевне. На секунду они остановились, но дождик начинал накрапывать чаще и чаще.
– Пойдемте на галерею, там ты его еще раз представишь, – сказала та, которую я принял за мать Дмитрия, и мы вместе с дамами взошли на лестницу.
Глава XXIII
Нехлюдовы
В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках болонку, сзади всех, в толстых вязаных башмаках, всходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку. Она была очень нехороша собой: рыжа, худа, невелика ростом, немного кривобока. Что еще более делало некрасивым ее некрасивое лицо, была странная прическа с пробором сбоку (одна из тех причесок, которые придумывают для себя плешивые женщины). Как я ни старался в угодность своему другу, я не мог в ней найти ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее, хотя и выражавшие добродушие, были слишком малы и тусклы и решительно нехороши; даже руки, эта характеристическая черта, хотя и небольшие и недурной формы, были красны и шершавы.
Когда я вслед за ними вошел на террасу – исключая Вареньки, сестры Дмитрия, которая только внимательно посмотрела на меня своими большими темно-серыми глазами, – каждая из дам сказала мне несколько слов, прежде чем они снова взяли каждая свою работу, а Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем.
Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз ей казалось гораздо меньше. Глаза у нее были карие, очень открытые; губы слишком тонкие, немного строгие; нос довольно правильный и немного на левую сторону; рука у нее была без колец, большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами. На ней было темно-синее закрытое платье, крепко стягивающее ее стройную и еще молодую талию, которой она, видимо, щеголяла. Она сидела чрезвычайно прямо и шила какое-то платье. Когда я вошел на галерею, она взяла мою руку, притянула меня к себе, как будто с желанием рассмотреть меня поближе, и сказала, взглянув на меня тем же несколько холодным, открытым взглядом, который был у ее сына, что она меня давно знает по рассказам Дмитрия и что для того, чтобы ознакомиться хорошенько с ними, она приглашает меня пробыть у них целые сутки.
– Делайте все, что вам вздумается, нисколько не стесняясь нами, так же как и мы не будем стесняться вами, – гуляйте, читайте, слушайте или спите, ежели вам это веселее, – прибавила она.
Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид она казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом, очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединяться ниже выгнутого мыска лифа, и самый туго-натуго натянутый мысок лифа она уже не могла видеть.
Несмотря на то, что княгиня Марья Ивановна была черноволосая и черноглазая, а Софья Ивановна белокура и с большими живыми и вместе с тем (что большая редкость) спокойными голубыми глазами, между сестрами было большое семейное сходство; то же выражение, тот же нос, те же губы; только у Софьи Ивановны и нос и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую. Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых буклей, ежели бы они у нее были. Ее взгляд и обращение со мною показались мне в первую минуту очень гордыми и смутили меня; тогда как с княгиней, напротив, я чувствовал себя совершенно развязным. Может быть, эта толщина и некоторое сходство с портретом Екатерины Великой, которое поразило меня в ней, придавали ей в моих глазах гордый вид; но я совершенно оробел, когда она, пристально глядя на меня, сказала мне: «Друзья наших друзей – наши друзья». Я успокоился и вдруг совершенно переменил о ней мнение только тогда, когда она, сказав эти слова, замолчала и, открыв рот, тяжело вздохнула. Должно быть, от полноты у нее была привычка после нескольких сказанных слов глубоко вздыхать, открывая немного рот и несколько закатывая свои большие голубые глаза. В этой привычке почему-то выражалось такое милое добродушие, что вслед за этим вздохом я потерял к ней страх, и она даже мне очень понравилась. Глаза ее были прелестны, голос звучен и приятен, даже эти очень круглые линии сложения в ту пору моей юности казались мне не лишенными красоты.
Любовь Сергеевна, как друг моего друга (я полагал), должна была сейчас же сказать мне что-нибудь очень дружеское и задушевное, и она даже смотрела на меня довольно долго молча, как будто в нерешимости – не будет ли уж слишком дружески то, что она намерена сказать мне; но она прервала это молчание только для того, чтобы спросить меня, в каком я факультете. Потом снова она довольно долго пристально смотрела на меня, видимо колеблясь: сказать или не сказать это задушевное дружеское слово; и я, заметив это сомнение, выражением лица умолял ее сказать мне все, но она сказала: «Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками», – и подозвала свою собачку Сюзетку.
Любовь Сергеевна весь этот вечер говорила такими большею частию не идущими ни к делу, ни друг к другу изречениями; но я так верил Дмитрию, и он так заботливо весь этот вечер смотрел то на меня, то на нее с выражением, спрашивавшим: «Ну, что?» – что я, как это часто случается, хотя в душе был уже убежден, что в Любовь Сергеевне ничего особенного нет, еще чрезвычайно далек был от того, чтобы высказать эту мысль даже самому себе.
Наконец последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка лет шестнадцати.
Только темно-серые большие глаза, выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и чрезвычайно нежная и красивая рука – были хороши в ней.
– Вам, я думаю, скучно, monsieur Nicolas, слушать из середины, – сказала мне Софья Ивановна с своим добродушным вздохом, переворачивая куски платья, которое она шила.
Чтение в это время прекратилось, потому что Дмитрий куда-то вышел из комнаты.
– Или, может быть, вы уже читали «Роброя»?
В то время я считал своею обязанностию, вследствие уже одного того, что носил студенческий мундир, с людьми мало мне знакомыми на каждый даже самый простой вопрос отвечать непременно очень умно и оригинально и считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как: да, нет, скучно, весело и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал «Роброя», но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из средины, чем с начала.
– Вдвое интересней: догадываешься о том, что было и что будет, – добавил я, самодовольно улыбаясь.
Княгиня засмеялась как будто бы неестественным смехом (впоследствии я заметил, что у ней не было другого смеха).
– Однако это, должно быть, правда, – сказала она. – А что, вы долго здесь пробудете, Nicolas? Вы не обидитесь, что я вас зову без monsieur? Когда вы едете?
– Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго, – отвечал я почему-то, несмотря на то, что мы наверное должны были ехать завтра.
– Я бы желала, чтоб вы остались, и для вас, и для моего Дмитрия, – заметила княгиня, глядя куда-то далеко, – в ваши года дружба славная вещь.
Я чувствовал, что все смотрели на меня и ожидали того, что я скажу, хотя Варенька и притворялась, что смотрит работу тетки; я чувствовал, что мне делают в некотором роде экзамен и что надо показаться как можно выгодней.
– Да, для меня, – сказал я, – дружба Дмитрия полезна, но я не могу ему быть полезен: он в тысячу раз лучше меня. (Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе я бы боялся, что он почувствует неискренность моих слов.)
Княгиня засмеялась снова неестественным, ей естественным смехом.
– Ну, а послушать его, – сказала она, – так c’est vous qui ?tes un petit monstre de perfection[92 - это вы – чудовищное совершенство (фр.).].
«Monstre de perfection – это отлично, надо запомнить», – подумал я.