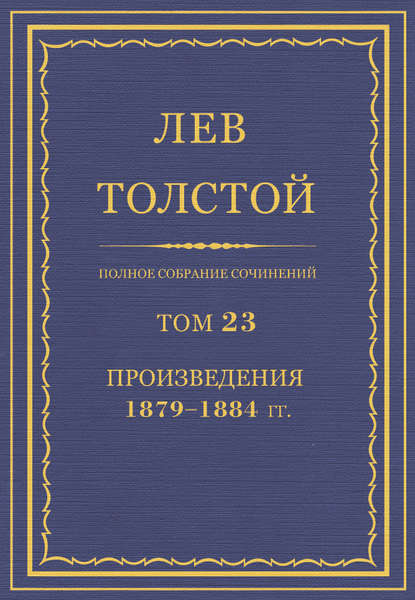По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 23. Произведения 1879–1884 гг.
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тотчас же непосредственно после второй заповеди приводится опять ссылка на древний закон и излагается третья заповедь. Матф. V, 33—37. «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй перед господом клятвы твои (Левит XIX, 12. Второзаконие XXIII, 21). А я говорю вам: не клянись вовсе; ни небом, потому что оно престол божий; ни землею, потому что она подножие ног его; ни Иерусалимом, потому что он город великого царя; ни головою своею не клянись, потому что ни одного волоса не можешь сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого».
Место это при прежних чтениях моих всегда смущало меня. Оно смущало меня не своей неясностью, как место о разводе, не противоречиями с другими местами, как разрешение не напрасного гнева, не трудностью исполнения, как место о подставлении щеки, оно смущало меня, напротив, своей ясностью, простотою и легкостью. Рядом с правилами, глубина и значение которых ужасали и умиляли меня, вдруг стояло такое не нужное мне, пустое, легкое и не имеющее никаких ни для меня, ни для других последствий правило. Я и так не клялся ни Иерусалимом, ни богом, ничем, и мне это никакого труда не стоило; и, кроме того, мне казалось, что буду ли, или не буду я клясться, это не может иметь ни для кого никакой важности. И, желая найти объяснение этого, своей легкостью смущавшего меня правила, я обратился к толкователям. В этом случае толкователи помогли мне.
Все толкователи видят в этих словах подтверждение третьей заповеди Моисея – не клясться именем божиим. Они объясняют эти слова так, что Христос, как и Моисей, запрещает произносить имя бога всуе. Но, кроме этого, толкователи еще объясняют и то, что это правило Христа не класться – не всегда обязательно и никак не относится к той присяге, которую каждый гражданин дает предержащей власти. И подбираются тексты священного писания не для того, чтобы подтвердить прямой смысл предписания Христа, а для того, чтобы доказать то, что можно и должно не исполнять его.
Говорится, что Христос сам утвердил клятву на суде, когда на слова первосвященника: «Заклинаю тебя богом живым», отвечал: ты сказал; говорится, что апостол Павел призывает бога во свидетельство истины своих слов, что есть, очевидно, та же клятва; говорится, что клятвы были предписаны законом Моисеевым, но господь не отменил этих клятв; говорится, что отменяются только клятвы пустые, фарисейски-лицемерные.
И, поняв смысл и цель этих объяснений, я понял, что предписание Христа о клятве совсем не так ничтожно, легко и незначительно, как оно мне казалось, когда я в числе клятв, запрещенных Христом, не считал государственную присягу.
И я спросил себя: да не сказано ли тут то, что запрещается и та присяга, которую так старательно выгораживают церковные толкователи? Не запрещена ли тут присяга, та самая присяга, без которой невозможно разделение людей на государства, без которой невозможно военное сословие? Солдаты – это те люди, которые делают все насилия, и они называют себя – «присяга». Если бы я поговорил с гренадером о том, как он разрешает противоречие между Евангелием и воинским уставом, он бы сказал мне, что он присягал, т. е. клялся на Евангелии. Такие ответы давали мне все военные. Клятва эта так нужна для образования того страшного зла, которое производят насилия и войны, что во Франции, где отрицается христианство, все-таки держатся присяги. Ведь если бы Христос не сказал этого, не сказал – не присягайте никому, то он должен бы был сказать это. Он пришел уничтожить зло, а не уничтожь он присягу, какое огромное зло остается еще на свете. Может быть, скажут, что во времена Христа зло это было незаметно. Но это неправда: Эпиктет, Сенека говорили про то, чтобы не присягать никому; в законах Ману есть это правило. Отчего я скажу, что Христос не видал этого зла? И скажу тогда, когда он сказал это прямо, ясно и даже подробно.
Он сказал: Я говорю: не клянись вовсе. Выражение это так же просто, ясно и несомненно, как слова: не судите и не присуждайте, и так же мало подвержено перетолкованиям, тем более, что в конце прибавлено, что всё, что потребуется от тебя сверх ответа – да и нет, всё это – от начала зла.
Ведь если учение Христа в том, чтобы исполнять всегда волю бога, то как же может человек клясться, что он будет исполнять волю человека? Воля бога может не совпасть с волею человека. И даже в этом самом месте Христос это самое и говорит. Он говорит (ст. 36): не клянись головою, потому что не только голова твоя, но и каждый волос на ней во власти бога. То же говорится и в послании Иакова.
В послании своем, в конце его, как бы в заключение всего, апостол Иаков говорит (гл. V, ст. 12): прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни другою какою клятвою, но да будет у вас: да, да и нет, нет; дабы вам не подпасть осуждению. Апостол прямо говорит, почему не следует клясться: клятва сама по себе кажется не преступною, но от нее подпадают осуждению, и потому не клянитесь никак. Как еще яснее сказать то, что сказано и Христом и апостолом?
Но я был так запутан, что я с удивлением долго спрашивал себя: неужели это значит то, что значит? Как же мы все присягаем на Евангелии? Это не может быть.
Но я уже прочел толкования и видел, как это невозможное было сделано.
Что при объяснениях слов: не судите, не гневайтесь ни на кого, не разрывайте союз мужа с женою, то же и здесь. Мы установили свои порядки, любим их и хотим считать их священными. Приходит Христос, которого мы считаем богом, и говорит, что эти-то наши порядки нехороши. Мы его считаем богом и не хотим отказаться от наших порядков. Что же нам делать? Где можно, вставить слово – «напрасно» и на нет свести правило против гнева; где можно, как самые бессовестные кривосуды, так перетолковать смысл статьи закона, чтобы выходило обратное: вместо – никогда не разводиться с женою, вышло бы то, что можно разводиться. А где уж никак нельзя перетолковать, как в словах: не судите и не присуждайте, и в словах: не клянитесь вовсе, смело, прямо действовать противно учению, утверждая, что мы ему следуем. И в самом деле, главная помеха тому, чтобы понять то, что Евангелие запрещает всякую клятву и тем более присягу, есть то, что псевдо-христианские учители с необычайной смелостью на самом на Евангелии, самым Евангелием заставляют клясться людей, т. е. делать противное Евангелию.
Как придет в голову человеку, которого заставляют клясться крестом и Евангелием, что крест оттого и свят, что на нем распяли того, кто запрещал клясться, и что присягающий, может быть, целует, как святыню, то самое место, где ясно и определенно сказано: не клянитесь никак.
Но меня уже не смущала эта смелость. Я ясно видел, что с ст. 33 по 37 была выражена ясная, определенная, исполнимая третья заповедь: не присягай никогда никому ни в чем. Всякая присяга вымогается от людей для зла.
Вслед за этой третьей заповедью приводится четвертая ссылка и излагается четвертая заповедь (Матф. V, 38—42; Лук. VI, 29, 30). «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним на одно поприще, иди с ним на два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся».
О том, какое прямое, определенное значение имеют эти слова и как мы не имеем никакого основания перетолковывать их иносказательно, я говорил уже. Толкования этих слов, начиная от Иоанна Златоуста и до нас, поистине удивительны. Слова эти всем очень нравятся, и все делают, по случаю этих слов, всякого рода глубокомысленные соображения, за исключением одного: что слова эти имеют тот самый смысл, который они имеют. Церковные толкователи, нисколько не стесняясь авторитетом того, кого они признают богом, преспокойно ограничивают значение его слов. Они говорят: «Само собой разумеется, что все эти заповеди о терпении обид, об отречении от возмездия, как направленные собственно против иудейской любомстительности, не исключают не только общественных мер к ограничению зла и наказанию делающих зло, но и частных, личных усилий и забот каждого человека о ненарушимости правды, о вразумлении обидчиков, о прекращении для злонамеренных возможности вредить другим; ибо иначе самые духовные законы спасителя по-иудейски обратились бы только в букву, могущую послужить к успехам зла и подавлению добродетели. Любовь христианина должна быть подобна любви божией, но любовь божия ограничивает и наказывает зло только в той мере, в какой оно остается более или менее безвредным для славы божией и для спасения ближнего; в противном случае должно ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство» (Толковое Евангелие архим. Михаила, всё основанное на толковании святых отцов).
Ученые и свободномыслящие христиане также не стесняются смыслом слов Христа и поправляют его. Они говорят, что это очень возвышенные изречения, но лишенные всякой возможности приложения к жизни, ибо приложение к жизни правила непротивления злу уничтожает весь тот порядок жизни, который мы так хорошо устроили: это говорит Ренан, Штраус и все вольнодумные толкователи.
Но стоит отнестись к словам Христа только так, как мы относимся к словам первого встречного человека, который с нами говорит, т. е. предполагая, что он говорит то, что говорит, чтобы тотчас же устранилась необходимость всяких глубокомысленных соображений. Христос говорит: я нахожу, что способ обеспечения вашей жизни очень глуп и дурен. Я вам предлагаю совсем другой, следующий. И он говорит свои слова от стиха тридцать восьмого по сорок второй. Казалось бы, что, прежде чем поправлять эти слова, надо понять их. А вот этого-то никто не хочет сделать, вперед решая, что порядок, в котором мы живем и который нарушается этими словами, есть священный закон человечества.
Я не считал нашу жизнь ни хорошею, ни священною, и потому понял эту заповедь прежде других. И когда я понял слова эти так, как они сказаны, меня поразила их истинность, точность и ясность. Христос говорит: вы злом хотите уничтожить зло. Это неразумно. Чтобы не было зла, не делайте зла. И потом Христос перечисляет все случаи, в которых мы привыкли делать зло, и говорит, что в этих случаях не надо его делать.
Эта четвертая заповедь была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл всех остальных. Четвертая простая, ясная, исполнимая заповедь говорит: никогда силой не противься злому, насилием не отвечай на насилие: бьют тебя – терпи, отнимают – отдай, заставляют работать – работай, хотят взять у тебя то, что ты считаешь своим – отдавай.
И вслед за этой четвертой заповедью следует пятая ссылка и пятая заповедь (Матф. V, 43—48). «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Левит XIX, 17, 18). А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный».
Стихи эти прежде представлялись мне разъяснением, дополнением и усилением, скажу даже – преувеличением слов о непротивлении злу. Но, найдя простой, приложимый, определенный смысл каждого места, начинающегося с ссылки на древний закон, я предчувствовал такой же и в этом. После каждой ссылки была изложена заповедь, и каждый стих заповеди имел значение и не мог быть выкинут, и здесь должно было быть то же. Последние слова, повторенные у Луки о том, что бог не делает различия между людьми и дает благо всем, и что потому и вы должны быть таковы же, как бог: не делать различия между людьми и должны не так делать, как язычники, а должны всех любить и всем делать добро одинаково – эти слова были ясны, они представлялись мне подтверждением и объяснением какого-то ясного правила, но в чем было это правило – я долго не мог понять.
Любить врагов? Это было что-то невозможное. Это было одно из тех прекрасных выражений, на которые нельзя иначе смотреть, как на указание недостижимого нравственного идеала. Это было слишком много или ничего. Можно не вредить своему врагу, но любить – нельзя. Не мог Христос предписывать невозможное. Кроме того, в самых первых словах, в ссылке на закон древних: «вам сказано: ненавидь врага», было что-то сомнительное. В прежних местах Христос приводит действительные, подлинные слова закона Моисея; но здесь он приводит слова, которые никогда не были сказаны. Он как будто клевещет на закон.
Толкования, как и в прежних моих сомнениях, ничего не разъяснили мне. Во всех толкованиях признается, что слов: «вам сказано: ненавидь врага» – нет в законе Моисея, но объяснения этого неверно приведенного места из закона нигде не дается. Говорится о том, как трудно любить врагов – злых людей, и большею частью делаются поправки к словам Христа; говорится, что нельзя любить врагов, а можно не желать и не делать им зла. Между прочим внушается, что можно и должно обличать, т. е. противиться врагам, говорится о разных степенях достижения этой добродетели, так что по толкованиям церкви конечный вывод тот, что Христос, неизвестно зачем, неправильно привел слова из закона Моисея и наговорил много прекрасных, но, собственно, пустых и неприложимых слов.
Мне казалось, что это не может быть так. Тут должен быть ясный и определенный смысл, такой же, как и в первых четырех заповедях. И для того, чтобы понять этот смысл, я прежде всего постарался понять значение слов неверной ссылки на закон: «вам сказано: ненавидь врагов». Недаром же Христос при каждом правиле приводит слова закона: не убей, не прелюбодействуй и т. д., и этим словам противополагает свое учение. Не поняв того, что он разумел под словами приводимого им закона, нельзя понять того, что он предписывает. В толкованиях же прямо говорится (да и нельзя этого не сказать), что он приводит такие слова, которых не было в законе, но не объясняется, почему он это делает и что значит эта неверная ссылка. Мне казалось, что прежде всего надо объяснить, что мог разуметь Христос, приводя слова, которых не было в законе. И я спросил себя: что же могут значить слова, неверно приведенные Христом из закона? Во всех прежних ссылках Христа на закон приводится только одно постановление древнего закона, как: не убей, не прелюбодействуй, держи клятвы, зуб за зуб…, и по случаю этого одного приводимого постановления излагается соответствующее ему учение. Здесь же приводятся два постановления, противополагающиеся друг другу: вам сказано – люби ближнего и ненавидь врага, так что, очевидно, основой нового закона должно быть самое различие между двумя постановлениями древнего закона относительно ближнего и врага. И чтобы понять яснее, в чем было это различие, я спросил себя: что значит слово «ближний» и слово «враг» на евангельском языке? И, справившись с лексиконами и контекстами Библии, я убедился, что ближний на языке еврея всегда означает только еврея. Такое определение ближнего дается и в Евангелии притчей о самарянине. По понятию еврея-законника, спрашивающего, кто ближний? – самарянин не мог быть ближним. Такое же определение ближнего дается и в Деяниях (VII, 27). Ближний на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляет Христос в этом месте, приводя слова закона: вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, состоит в противоположении между земляком и чужеземцем, спрашиваю себя, что такое враг по понятиям иудеев, и нахожу подтверждение своего предположения. Слово враг употребляется в Евангелиях почти всегда в смысле врагов не личных, но общих, народных (Лук. I, 71—74; Матф. XXII, 44; Марк. XII, 36; Лук. XX, 43 и др.). Единственное число, в котором употреблено слово враг в этих стихах в выражении ненавидь врага, показывает мне, что здесь идет речь о враге народа. Единственное число означает совокупность вражеского народа. В Ветхом Завете понятие вражеского народа всегда выражается единственным числом.
И как только я понял это, так тотчас же устранилось то затруднение: зачем и каким образом мог Христос, всякий раз приводя подлинные слова закона, здесь вдруг привести слова: вам сказано: ненавидь врага, которые не были сказаны. Стоит только понимать слово враг в смысле врага народного и ближнего – в смысле земляка, чтобы затруднения этого вовсе не было. Христос говорит о том, как по закону Моисея предписано евреям обращаться с врагом народным. Все те разбросанные по разным книгам писания места, в которых предписывается и угнетать, и убивать, и истреблять другие народы, Христос соединяет в одно выражение: ненавидеть – делать зло врагу. И он говорит: вам сказано, что надо любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различия той народности, к которой они принадлежат. И как только я понял эти слова так, так тотчас устранилось и другое, главное затруднение: как понимать слова: любите врагов ваших. Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих. И для меня стало очевидным, что, говоря: вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю: люби врагов, Христос говорит о том, что все люди приучены считать своими ближними людей своего народа, а чужие народы считать врагами, и что он не велит этого делать. Он говорит: по закону Моисея сделано различие между евреем и не евреем – врагом народным, а я говорю вам: не надо делать этого различия. И точно, и по Матфею и по Луке вслед за этим правилом он говорит, что для бога все равны, на всех светит одно солнце, на всех падает дождь; бог не делает различия между народами и всем делает равное добро; то же должны делать и люди для всех людей без различия их народностей, а не так, как язычники, разделяющие себя на разные народы.
Так что опять с разных сторон подтвердилось для меня простое, важное, ясное и приложимое понимание слов Христа. Опять вместо изречения туманного и неопределенного любомудрия выяснилось ясное, определенное и важное и исполнимое правило: не делать различия между своим и чужим народом и не делать всего того, что вытекает из этого различия: не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим.
Всё это было так просто, так ясно, что мне было удивительно, как мог я сразу не понять этого.
Причина моего непонимания была та же, что и причина непонимания запрещения судов и клятвы. Очень трудно понять, что те суды, которые открываются христианскими молебствиями, благословляются теми, которые считают себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовместимы с исповеданием Христа и прямо противны ему. Еще труднее догадаться, что та самая клятва, к которой приводят всех людей блюстители закона Христа, прямо запрещена этим законом; но догадаться, что то, что в нашей жизни считается не только необходимым и естественным, но самым прекрасным и доблестным – любовь к отечеству, защита, возвеличение его, борьба с врагом и т. п., – суть не только преступления закона Христа, но явное отречение от него, —догадаться, что это так – ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его. Мы так пропустили мимо ушей и забыли всё то, что он сказал нам о нашей жизни – о том, что не только убивать, но гневаться нельзя на другого человека, что нельзя защищаться, а надо подставлять щеку, что надо любить врагов, – что нам теперь, привыкшим называть людей, посвятивших свою жизнь убийству, – христолюбивым воинством, привыкшим слушать молитвы, обращенные ко Христу о победе над врагами, славу и гордость свою полагающим в убийстве, в некоторого рода святыню возведшим символ убийства, шпагу, так что человек без этого символа, – без ножа, – это осрамленный человек, что нам теперь кажется, что Христос не запретил войны, что если бы он запрещал, он бы сказал это яснее.
Мы забываем то, что Христос никак не мог себе представить, что люди, верующие в его учение смирения, любви и всеобщего братства, спокойно и сознательно могли бы учреждать убийство братьев.
Христос не мог себе представить этого, и потому он не мог христианину запрещать войну, как не может отец, дающий наставление своему сыну о том, как надо жить честно, не обижая никого и отдавая свое другим, запрещать ему, как не надо резать людей на большой дороге.
То, чтобы нужно было христианину запрещать убийство, называемое войною, не мог себе представить и ни один апостол и ни один ученик Христа первых веков христианства. Вот что говорит, например, Ориген в своем ответе Цельзию (глава 63).
Он говорит: «Цельзий увещевает нас помогать всеми нашими силами государю, участвовать в его законных трудах, вооружаться за него, служить под его знаменами, если нужно – водить в сражениях его войска. На это надо ответить, что мы при случае подаем помощь царям, но так сказать, божественную помощь, потому что мы облечены бронею бога. Этим поведением мы подчиняемся голосу апостола. «Умоляю вас прежде всего, – говорит он, – молиться, просить и благодарить за всех людей, за царей и за высоких в почестях». Так что чем набожнее, тем полезнее бывает человек для царей; и польза его более действительна, чем польза солдата, который, завербовавшись под знамена царя, побивает столько врагов, сколько может. Кроме того, людям, которые, не зная нашей веры, требуют от нас того, чтобы мы резали людей, мы можем еще отвечать то, что и ваши жрецы не оскверняют своих рук, чтобы ваш бог принял их жертвы. То же и мы». И, кончая эту главу объяснением того, что христиане приносят пользу своею мирною жизнию более, чем солдаты, Ориген говорит: «Итак, мы воюем лучше, чем кто-нибудь, за спасение императора. Правда, что мы не служим под его знаменами. Мы и не станем служить, если бы даже он принуждал нас к этому».
Так относились к войне христиане первых веков и так говорили их учителя, обращаясь к сильным мира, и говорили так в то время, когда сотнями и тысячами гибли мученики за исповедание Христовой веры.
А теперь? Теперь и вопроса нет о том, может ли христианин участвовать в войнах. Все молодые люди, воспитываемые в церковном законе, называемом христианским, каждую осень, когда настанет срок, идут в воинские присутствия и с помощью церковных пастырей отрекаются от закона Христа. Только недавно нашелся один крестьянин, который на основании Евангелия отказался от военной службы. Учители церкви внушали крестьянину его заблуждение; но так как крестьянин поверил не им, но Христу, то его посадили в тюрьму и продержали там до тех пор, пока он не отрекся от Христа. И всё это делается после того, как нам, христианам, 1800 лет тому назад объявлена нашим богом заповедь вполне ясная и определенная: «не считай людей других народов своими врагами, а считай всех людей братьями и ко всем относись так же, как ты относишься к людям своего народа, и потому не только не убивай тех, которых называешь своими врагами, но люби их и делай им добро».
И, поняв таким образом эти столь простые, определенные, не подверженные никаким перетолкованиям заповеди Христа, я спросил себя: что бы было, если бы весь христианский мир поверил в эти заповеди не в том смысле, что их нужно петь или читать для умилостивления бога, а что их нужно исполнять для счастия людей? Что бы было, если бы люди поверили обязательности этих заповедей хоть так же твердо, как они поверили тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить в церковь, каждую субботу есть постное и каждый год говеть? Что бы было, если бы люди поверили в эти заповеди хоть так же, как они верят в церковные требования? И я представил себе всё христианское общество, живущее и воспитывающее молодые поколения в этих заповедях. Я представил себе, что всем нам и нашим детям с детства словом и примером внушается не то, что внушается теперь: что человек должен соблюдать свое достоинство, отстаивать перед другими свои права (чего нельзя иначе делать, как унижая и оскорбляя других), а внушается то, что ни один человек не имеет никаких прав и не может быть ниже или выше другого; что ниже и позорнее всех только тот, который хочет стать выше других; что нет более унизительного для человека состояния, как состояние гнева против другого человека; что кажущееся мне ничтожество или безумие человека не может оправдать мой гнев против него и мой раздор с ним. Вместо всего устройства нашей жизни от витрин магазинов до театров, романов и женских нарядов, вызывающих плотскую похоть, я представил себе, что всем нам и нашим детям внушается словом и делом, что увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами есть самое подлое увеселение, что всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок. Вместо устройства нашей жизни, при котором считается необходимым и хорошим, чтобы молодой человек распутничал до женитьбы, вместо того, чтобы жизнь, разлучающую супругов, считать самой естественной, вместо узаконения сословия женщин, служащих разврату, вместо допускания и благословления развода, – вместо всего этого я представил себе, что нам делом и словом внушается, что одинокое безбрачное состояние человека, созревшего для половых сношений и не отрекшегося от них, есть уродство и позор, что покидание человеком той, с какой он сошелся, перемена ее для другой есть не только такой же неестественный поступок, как кровосмешение, но есть и жестокий, бесчеловечный поступок. Вместо того, чтобы вся жизнь наша была установлена на насилии, чтобы каждая радость наша добывалась и ограждалась насилием; вместо того, чтобы каждый из нас был наказываемым или наказывающим с детства и до глубокой старости, я представил себе, что всем нам внушается словом и делом, что месть есть самое низкое животное чувство, что насилие есть не только позорный поступок, но поступок, лишающий человека истинного счастья, что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием, что высшее уважение заслуживает не тот, кто отнимает или удерживает свое от других и кому служат другие, а тот, кто больше отдает свое и больше служит другим. Вместо того, чтобы считать прекрасным и законным то, чтобы всякий присягал и отдавал всё, что у него есть самого драгоценного, т. е. всю свою жизнь, в волю сам не зная кого, я представил себе, что всем внушается то, что разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать, и что обещаться с клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни. Я представил себе, что вместо тех народных ненавистей, которые под видом любви к отечеству внушаются нам, вместо тех восхвалений убийства – войн, которые с детства представляются нам как самые доблестные поступки, я представил себе, что нам внушается ужас и презрение ко всем тем деятельностям – государственным, дипломатическим, военным, которые служат разделению людей, что нам внушается то, что признание каких бы то ни было государств, особенных законов, границ, земель, есть признак самого дикого невежества, что воевать, т. е. убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода есть самое ужасное злодейство, до которого может дойти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного. Я представил себе, что все люди поверили в это, и спросил себя: что бы тогда было?
Прежде я спрашивал себя, что будет из исполнения учения Христа, как я понимал его, и невольно отвечал себе: ничего. Мы все будем молиться, пользоваться благодатью таинств, верить в искупление и спасение наше и всего мира Христом, и все-таки спасение это произойдет не от нас, а оттого, что придет время конца мира. Христос придет в свой срок во славе судить живых и мертвых, и установится царство бога независимо от нашей жизни. Теперь же учение Христа, как оно представилось мне, имело еще и другое значение; установление царства бога на земле зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, установляло это царство божие. Царство бога на земле есть мир всех людей между собою. Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей. Так представлялось царство бога всем пророкам еврейским. И так оно представлялось и представляется всякому сердцу человеческому. Все пророчества обещают мир людям.
Всё учение Христа состоит в том, чтобы дать царство бога – мир людям. В нагорной проповеди, в беседе с Никодимом, в послании учеников, во всех поучениях своих он говорит только о том, что разделяет людей и мешает им быть в мире и войти в царство бога. Все притчи суть только описание того, что есть царство бога и что, только любя братьев и будучи в мире с ними, можно войти в него. Иоанн Креститель, предшественник Христа, говорит, что приблизилось царство бога и что Иисус Христос дает его миру.
Христос говорит, что принес мир на землю (Иоан. XIV, 27). «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается».
И вот эти пять заповедей его действительно дают этот мир людям. Все пять заповедей имеют только одну эту цель – мира между людьми. Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный.
Первая заповедь говорит: Будь в мире со всеми, не позволяй, себе считать другого человека ничтожным или безумным (Матф. V, 22). Если нарушен мир, то все силы употребляй на то, чтобы восстановить его. Служение богу есть уничтожение вражды (23—24). Мирись при малейшем раздоре, чтобы не потерять истинной жизни (26). В этой заповеди сказано всё; но Христос предвидит соблазны мира, нарушающие мир между людьми, и дает вторую заповедь – против соблазна половых отношений, нарушающего мир. Не смотри на красоту плотскую как на потеху, вперед избегай этого соблазна (28—30); бери муж одну жену, и жена – одного мужа, и не покидайте друг друга ни под каким предлогом (32). Другой соблазн – это клятвы, вводящие людей в грех. Знай вперед, что это – зло, и не давай никаких обетов (34—37). Третий соблазн – это месть, называющаяся человеческим правосудием; не мсти и не отговаривайся тем, что тебя обидят, – неси обиды, а не делай зла за зло (38—42). Четвертый соблазн – это различие народов, вражда племен и государств. Знай, что все люди – братья и сыны одного бога, и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей (43—48). Не исполнят люди одну из этих заповедей – мир будет нарушен. Исполнят люди все заповеди, и царство мира будет на земле. Заповеди эти исключают всё зло из жизни людей.
При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди будут братья и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему богом. Перекуют люди мечи на орала и копья на серпы. Будет то царство бога, царство мира, которое обещали все пророки и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исаии: «Дух господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето господне благоприятное» (Лук. IV, 18—19; Исаии LXI, 1—2).
Заповеди мира, данные Христом, простые, ясные, предвидящие все случаи раздора и предотвращающие его, открывают это царство бога на земле. Стало быть, Христос точно мессия. Он исполнил обещанное. Мы только не исполняем того, чего вечно желали все люди, – того, о чем мы молились и молимся.
VII
Отчего же люди не делают того, что Христос сказал им и что дает им высшее доступное человеку благо, чего они вечно желали и желают? И со всех сторон я слышу один, разными словами выражаемый, один и тот же ответ: «Учение Христа очень хорошо, и правда, что при исполнении его установилось бы царство бога на земле, но оно трудно и потому неисполнимо».
Учение Христа о том, как должны жить люди, божественно, хорошо и дает благо людям, но людям трудно исполнять его. Мы так часто повторяем и слышим это, что нам не бросается в глаза то противоречие, которое находится в этих словах.
Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше.
Разумная деятельность человека, с тех пор как есть человек, направлена к тому, чтобы найти, что? лучше из тех противоречий, которыми наполнена жизнь и отдельного человека и всех людей вместе.
Люди дерутся за землю, за предметы, которые им нужны, и потом доходят до того, что делят всё и называют это собственностью; они находят, что хотя и трудно учредить это, но так лучше, и держатся собственности; люди дерутся за жен, бросают детей, потом находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья, и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого. И как только люди нашли, что так лучше, то как бы это трудно ни было, так и делают. Что же такое значит, что мы говорим: учение Христа прекрасно, жизнь по учению Христа лучше, чем та, которою мы живем; но мы не можем жить так, чтобы было лучше, потому что это «трудно».
Если это слово: «трудно» понимать так, что трудно жертвовать мгновенным удовлетворением своей похоти большему благу, то почему же мы не говорим, что трудно пахать, для того чтобы был хлеб, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо переносить трудности для достижения большего блага, это знает всякое существо, одаренное первым задатком разума. И вдруг оказывается, что мы говорим, что учение Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, следуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не лишались. Мы как будто никогда не слыхали того, что выгоднее иногда потерпеть и лишиться, чем ничего не терпеть и удовлетворять всегда свою похоть.