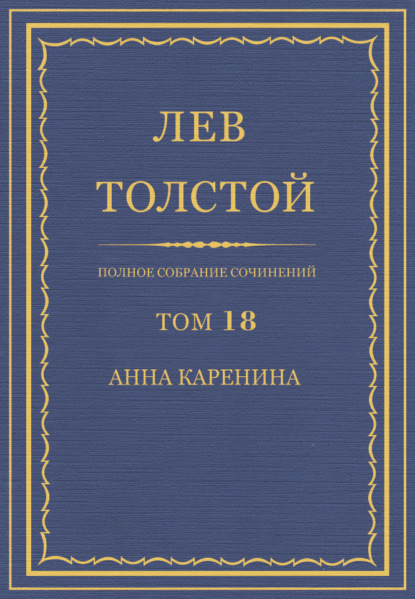По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 18. Анна Каренина
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Разве невозможен развод? – сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. – Разве нельзя взять сына и всё-таки оставить его?
– Да; но это всё от него зависит. Теперь я должна ехать к нему, – сказала она сухо. Ее предчувствие, что всё останется по-старому, – не обмануло ее.
– Во вторник я буду в Петербурге, и всё решится.
– Да, – сказала она. – Но не будем больше говорить про это.
Карета Анны, которую она отсылала и которой велела приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.
XXIII.
В понедельник было обычное заседание комиссии 2-го июня. Алексей Александрович вошел в залу заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руку на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали и нужные ему справки и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Впрочем, ему и не нужны были справки. Он помнил всё и не считал нужным повторять в своей памяти то, что он скажет. Он знал, что, когда наступит время и когда он увидит пред собой лицо противника, тщетно старающееся придать себе равнодушное выражение, речь его выльется сама собой лучше, чем он мог теперь приготовиться. Он чувствовал, что содержание его речи было так велико, что каждое слово будет иметь значение. Между тем, слушая обычный доклад, он имел самый невинный, безобидный вид. Никто не думал, глядя на его белые с напухшими жилами руки, так нежно длинными пальцами ощупывавшие оба края лежавшего пред ним листа белой бумаги, и на его с выражением усталости на бок склоненную голову, что сейчас из его уст выльются такие речи, которые произведут страшную бурю, заставят членов кричать, перебивая друг друга, и председателя требовать соблюдения порядка. Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения по делу об устройстве инородцев. Внимание обратилось на него. Алексей Александрович откашлялся и, не глядя на своего противника, но избрав, как он это всегда делал при произнесении речей, первое сидевшее перед ним лицо – маленького, смирного старичка, не имевшего никогда никакого мнения в комиссии, начал излагать свои соображения. Когда дело дошло до коренного и органического закона, противник вскочил и начал возражать. Стремов, тоже член комиссии и тоже задетый за живое, стал оправдываться, – и вообще произошло бурное заседание; но Алексей Александрович восторжествовал, и его предложение было принято; были назначены три новые комиссии, и на другой день в известном петербургском кругу только и было речи, что об этом заседании. Успех Алексея Александровича был даже больше, чем он ожидал.
На другое утро, во вторник, Алексей Александрович, проснувшись, с удовольствием вспомнил вчерашнюю победу и не мог не улыбнуться, хотя и желал казаться равнодушным, когда правитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил о слухах, дошедших до него, о происшедшем в комиссии.
Занимаясь с правителем канцелярии, Алексей Александрович совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадьевны, и был удивлен и неприятно поражен, когда человек пришел доложить ему о ее приезде.
Анна приехала в Петербург рано утром; за ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Ей сказали, что он еще не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придет сюда; но он не вышел, хотя она слышала, что он выходил к дверям кабинета, провожая правителя канцелярии. Она знала, что он, по обыкновению, скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтоб отношения их были определены.
Она прошлась по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вице-мундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки, и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней.
Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и он быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть.
– Я очень рад, что вы приехали, – сказал он, садясь подле нее, и, очевидно желая сказать что-то, он запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданью, она учила себя презирать и обвинять его, она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. И так молчание продолжалось довольно долго. – Сережа здоров? – сказал он и, не дожидаясь ответа, прибавил: – я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать.
– Я хотела уехать в Москву, – сказала она.
– Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали, – сказал он и опять умолк.
Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама:
– Алексей Александрович, – сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленным на ее прическу взором, – я преступная женщина, я дурная женщина, но я то же, что я была, что я сказала вам тогда, и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить.
– Я вас не спрашивал об этом, – сказал он, вдруг решительно и с ненавистью глядя ей прямо в глаза, – я так и предполагал, – Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. – Но, как я вам говорил тогда и писал, – заговорил он резким, тонким голосом, – я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятное известие мужьям. – Он особенно ударил на слове «приятное». – Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока мое имя не опозорено. И потому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были и что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтоб оградить свою честь.
– Но отношения наши не могут быть такими, как всегда, – робким голосом заговорила Анна, с испугом глядя на него.
Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало хотела уяснить свое положение.
– Я не могу быть вашею женой, когда я… – начала было она.
Он засмеялся злым и холодным смехом.
– Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то и другое… я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее… что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам.
Анна вздохнула и опустила голову.
– Впрочем, не понимаю, как, имея столько независимости, как вы, – продолжал он разгорячаясь, – объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены.
– Алексей Александрович! Что вам от меня нужно?
– Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас… чтобы вы не видали его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот всё, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я не обедаю дома.
Он встал и направился к двери. Анна встала тоже. Он, молча поклонившись, пропустил ее.
XXIV.
Ночь, проведенная Левиным на копне, не прошла для него даром: то хозяйство, которое он вел, опротивело ему и потеряло для него всякий интерес. Несмотря на превосходный урожай, никогда не было или, по крайней мере, никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками, как нынешний год, и причина неудач и этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшее вследствие того сближение с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которое в эту ночь было для него уже не мечтою, но намерением, подробности исполнения которого он обдумывал, – всё это так изменило его взгляд на заведенное у него хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения своего к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же, как Пава, вся удобренная, вспаханная плугами земля, девять равных полей, обсаженных лозинами, девяносто десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки, и т. п., – всё это было прекрасно, если б это делалось только им самим или им с товарищами, людьми сочувствующими ему. Но он ясно видел теперь (работа его над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогла ему в этом), – он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать всё на считаемый лучшим образец, на другой же стороне – естественный порядок вещей. И в этой борьбе он видел, что, при величайшем напряжении сил с его стороны и безо всякого усилия и даже намерения с другой, достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью, и совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же – не только совершенно даром пропадала направленная на это дело энергия, но он не мог не чувствовать теперь, когда смысл его хозяйства обнажился для него, что цель его энергии была самая недостойная. В сущности, в чем состояла борьба? Он стоял за каждый свой грош (и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы не достало денег расплачиваться с рабочими), а они только стояли зa то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как можно больше, притом чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтоб он обдумывал то, что он делает; работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, и главное – беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена, – ему скашивали под ряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное; но он знал, что это происходило оттого, что эти десятины было косить легче. Он посылал сеноворошилку трясти сено, – ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махающими над ним крыльями. И ему говорили: «не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец и, ворочая силом, он мучал лошадей и портил землю; и его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовались стеречь ночное, и Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря: «воля ваша». Трех лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, а рассказывали в утешение, как у соседа сто двенадцать голов в три дня выпало. Всё это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству; напротив, он знал, что его любили, считали простым барином (что есть высшая похвала); но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал течи, может быть, нарочно обманывая себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только не интересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься.
К этому еще присоединилось присутствие в тридцати верстах от него Кити Щербацкой, которую он хотел и не мог видеть, Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать: приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как она давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее; но он не мог ехать к Облонским, зная, что она там. То, что он сделал ей предложение и она отказала ему, клало между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не может быть женою того, кого она хотела», говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней. «Я не в силах буду говорить с нею без чувства упрека, смотреть на нее без злобы, и она только еще больше возненавидит меня, как и должно быть. И потом, как я могу теперь, после того, чт? мне сказала Дарья Александровна, ехать к ним? Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием – простить, помиловать ее. Я пред нею в роли прощающего и удостоивающего ее своей любви!.. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидать ее, и тогда всё бы сделалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно!»
Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамского седла для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло, – писала она ему. – Надеюсь, что вы привезете его сами».
Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру! Он написал десять записок и все разорвал и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет, – нельзя, потому что он не может приехать; написать, что он не может приехать, потому что что-нибудь мешает или он уезжает – это еще хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что то стыдное, на другой же день, передав всё опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему Свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота и который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами всё откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседства Щербацких и, главное, от хозяйства, именно на охоту, которая во всех горестях служила ему лучшим утешением.
XXV.
В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе.
На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый, свежий старик, с широкою рыжею бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к верее, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка, в калошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых сенях. Она испугалась вбежавшей зa Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав Левину засученною рукой на дверь в горницу, она спрятала опять, согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть.
– Самовар, что ли? – спросила она.
– Да, пожалуйста.
Горница была большая, с голландскою печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало, и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы Ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол, и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на задний двор. Благовидная молодайка в калошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его зa водой к колодцу.
– Живо у меня! – весело крикнул на нее старик и подошел к Левину. – Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают, – словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца.
В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским ворота опять заскрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и боронами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные: двое были молодые, в ситцевых рубахах и картузах; другие двое были наемные, в посконных рубахах, – один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать.
– Что это пахали? – спросил Левин.
– Картошки пропахивали. Тоже землицу держим. Ты, Федот, мерина-то не пускай, а к колоде поставь, иную запряжем.
– Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять, принес, что ли? – спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика.
– Во… в санях, – отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их на земь. – Наладь, поколе пообедают.
Благовидная молодайка с полными, оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы молодые, красивые, средние и старые некрасивые, с детьми и без детей.
Самовар загудел в трубе; рабочие и семейные, убравшись с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собою старика напиться чаю.
– Да что, уже пили нынче, – сказал старик, очевидно с удовольствием принимая это предложение. – Нешто для компании.
За чаем Левин узнал всю историю старикова хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и всё лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится всё это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополонною рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его; но всегда это оказывалось невозможным. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом.
– Чего же бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет.
– Да; но это всё от него зависит. Теперь я должна ехать к нему, – сказала она сухо. Ее предчувствие, что всё останется по-старому, – не обмануло ее.
– Во вторник я буду в Петербурге, и всё решится.
– Да, – сказала она. – Но не будем больше говорить про это.
Карета Анны, которую она отсылала и которой велела приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.
XXIII.
В понедельник было обычное заседание комиссии 2-го июня. Алексей Александрович вошел в залу заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руку на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали и нужные ему справки и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Впрочем, ему и не нужны были справки. Он помнил всё и не считал нужным повторять в своей памяти то, что он скажет. Он знал, что, когда наступит время и когда он увидит пред собой лицо противника, тщетно старающееся придать себе равнодушное выражение, речь его выльется сама собой лучше, чем он мог теперь приготовиться. Он чувствовал, что содержание его речи было так велико, что каждое слово будет иметь значение. Между тем, слушая обычный доклад, он имел самый невинный, безобидный вид. Никто не думал, глядя на его белые с напухшими жилами руки, так нежно длинными пальцами ощупывавшие оба края лежавшего пред ним листа белой бумаги, и на его с выражением усталости на бок склоненную голову, что сейчас из его уст выльются такие речи, которые произведут страшную бурю, заставят членов кричать, перебивая друг друга, и председателя требовать соблюдения порядка. Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения по делу об устройстве инородцев. Внимание обратилось на него. Алексей Александрович откашлялся и, не глядя на своего противника, но избрав, как он это всегда делал при произнесении речей, первое сидевшее перед ним лицо – маленького, смирного старичка, не имевшего никогда никакого мнения в комиссии, начал излагать свои соображения. Когда дело дошло до коренного и органического закона, противник вскочил и начал возражать. Стремов, тоже член комиссии и тоже задетый за живое, стал оправдываться, – и вообще произошло бурное заседание; но Алексей Александрович восторжествовал, и его предложение было принято; были назначены три новые комиссии, и на другой день в известном петербургском кругу только и было речи, что об этом заседании. Успех Алексея Александровича был даже больше, чем он ожидал.
На другое утро, во вторник, Алексей Александрович, проснувшись, с удовольствием вспомнил вчерашнюю победу и не мог не улыбнуться, хотя и желал казаться равнодушным, когда правитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил о слухах, дошедших до него, о происшедшем в комиссии.
Занимаясь с правителем канцелярии, Алексей Александрович совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадьевны, и был удивлен и неприятно поражен, когда человек пришел доложить ему о ее приезде.
Анна приехала в Петербург рано утром; за ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Ей сказали, что он еще не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придет сюда; но он не вышел, хотя она слышала, что он выходил к дверям кабинета, провожая правителя канцелярии. Она знала, что он, по обыкновению, скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтоб отношения их были определены.
Она прошлась по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вице-мундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки, и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней.
Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и он быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть.
– Я очень рад, что вы приехали, – сказал он, садясь подле нее, и, очевидно желая сказать что-то, он запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданью, она учила себя презирать и обвинять его, она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. И так молчание продолжалось довольно долго. – Сережа здоров? – сказал он и, не дожидаясь ответа, прибавил: – я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать.
– Я хотела уехать в Москву, – сказала она.
– Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали, – сказал он и опять умолк.
Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама:
– Алексей Александрович, – сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленным на ее прическу взором, – я преступная женщина, я дурная женщина, но я то же, что я была, что я сказала вам тогда, и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить.
– Я вас не спрашивал об этом, – сказал он, вдруг решительно и с ненавистью глядя ей прямо в глаза, – я так и предполагал, – Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. – Но, как я вам говорил тогда и писал, – заговорил он резким, тонким голосом, – я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятное известие мужьям. – Он особенно ударил на слове «приятное». – Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока мое имя не опозорено. И потому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были и что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтоб оградить свою честь.
– Но отношения наши не могут быть такими, как всегда, – робким голосом заговорила Анна, с испугом глядя на него.
Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало хотела уяснить свое положение.
– Я не могу быть вашею женой, когда я… – начала было она.
Он засмеялся злым и холодным смехом.
– Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то и другое… я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее… что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам.
Анна вздохнула и опустила голову.
– Впрочем, не понимаю, как, имея столько независимости, как вы, – продолжал он разгорячаясь, – объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены.
– Алексей Александрович! Что вам от меня нужно?
– Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга не могли обвинить вас… чтобы вы не видали его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот всё, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я не обедаю дома.
Он встал и направился к двери. Анна встала тоже. Он, молча поклонившись, пропустил ее.
XXIV.
Ночь, проведенная Левиным на копне, не прошла для него даром: то хозяйство, которое он вел, опротивело ему и потеряло для него всякий интерес. Несмотря на превосходный урожай, никогда не было или, по крайней мере, никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками, как нынешний год, и причина неудач и этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшее вследствие того сближение с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которое в эту ночь было для него уже не мечтою, но намерением, подробности исполнения которого он обдумывал, – всё это так изменило его взгляд на заведенное у него хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения своего к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же, как Пава, вся удобренная, вспаханная плугами земля, девять равных полей, обсаженных лозинами, девяносто десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки, и т. п., – всё это было прекрасно, если б это делалось только им самим или им с товарищами, людьми сочувствующими ему. Но он ясно видел теперь (работа его над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогла ему в этом), – он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать всё на считаемый лучшим образец, на другой же стороне – естественный порядок вещей. И в этой борьбе он видел, что, при величайшем напряжении сил с его стороны и безо всякого усилия и даже намерения с другой, достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью, и совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же – не только совершенно даром пропадала направленная на это дело энергия, но он не мог не чувствовать теперь, когда смысл его хозяйства обнажился для него, что цель его энергии была самая недостойная. В сущности, в чем состояла борьба? Он стоял за каждый свой грош (и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы не достало денег расплачиваться с рабочими), а они только стояли зa то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как можно больше, притом чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтоб он обдумывал то, что он делает; работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, и главное – беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена, – ему скашивали под ряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное; но он знал, что это происходило оттого, что эти десятины было косить легче. Он посылал сеноворошилку трясти сено, – ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махающими над ним крыльями. И ему говорили: «не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец и, ворочая силом, он мучал лошадей и портил землю; и его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовались стеречь ночное, и Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря: «воля ваша». Трех лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, а рассказывали в утешение, как у соседа сто двенадцать голов в три дня выпало. Всё это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству; напротив, он знал, что его любили, считали простым барином (что есть высшая похвала); но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал течи, может быть, нарочно обманывая себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только не интересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься.
К этому еще присоединилось присутствие в тридцати верстах от него Кити Щербацкой, которую он хотел и не мог видеть, Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать: приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как она давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее; но он не мог ехать к Облонским, зная, что она там. То, что он сделал ей предложение и она отказала ему, клало между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не может быть женою того, кого она хотела», говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней. «Я не в силах буду говорить с нею без чувства упрека, смотреть на нее без злобы, и она только еще больше возненавидит меня, как и должно быть. И потом, как я могу теперь, после того, чт? мне сказала Дарья Александровна, ехать к ним? Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием – простить, помиловать ее. Я пред нею в роли прощающего и удостоивающего ее своей любви!.. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидать ее, и тогда всё бы сделалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно!»
Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамского седла для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло, – писала она ему. – Надеюсь, что вы привезете его сами».
Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру! Он написал десять записок и все разорвал и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет, – нельзя, потому что он не может приехать; написать, что он не может приехать, потому что что-нибудь мешает или он уезжает – это еще хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что то стыдное, на другой же день, передав всё опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему Свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота и который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами всё откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседства Щербацких и, главное, от хозяйства, именно на охоту, которая во всех горестях служила ему лучшим утешением.
XXV.
В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе.
На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый, свежий старик, с широкою рыжею бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к верее, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка, в калошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых сенях. Она испугалась вбежавшей зa Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав Левину засученною рукой на дверь в горницу, она спрятала опять, согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть.
– Самовар, что ли? – спросила она.
– Да, пожалуйста.
Горница была большая, с голландскою печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало, и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы Ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол, и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на задний двор. Благовидная молодайка в калошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его зa водой к колодцу.
– Живо у меня! – весело крикнул на нее старик и подошел к Левину. – Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают, – словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца.
В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским ворота опять заскрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и боронами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные: двое были молодые, в ситцевых рубахах и картузах; другие двое были наемные, в посконных рубахах, – один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать.
– Что это пахали? – спросил Левин.
– Картошки пропахивали. Тоже землицу держим. Ты, Федот, мерина-то не пускай, а к колоде поставь, иную запряжем.
– Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять, принес, что ли? – спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика.
– Во… в санях, – отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их на земь. – Наладь, поколе пообедают.
Благовидная молодайка с полными, оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы молодые, красивые, средние и старые некрасивые, с детьми и без детей.
Самовар загудел в трубе; рабочие и семейные, убравшись с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собою старика напиться чаю.
– Да что, уже пили нынче, – сказал старик, очевидно с удовольствием принимая это предложение. – Нешто для компании.
За чаем Левин узнал всю историю старикова хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и всё лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится всё это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополонною рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его; но всегда это оказывалось невозможным. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом.
– Чего же бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет.